|
Н. Эйдельман
"По смерти Петра I..."
|
|
Н. Эйдельман
"По смерти Петра I..."
|
В 1910 году, по завещанию первейшего коллекционера Павла Яковлевича Дашкова, в Лицейский музей поступило больше двадцати автографов Пушкина. Еще через семь лет эти рукописи переехали с Каменноостровского проспекта, где находился музей, на Стрелку Васильевского острова, в Пушкинский дом Академии наук.
Среди листков с письмами и стихами поэта сохранились шесть больших, двойных листов [1], согнутых таким образом, что чистые поля занимают почти половину каждой страницы, в то время как другая половина заполнена летящим, свободным почерком Пушкина. Несколько чернильных пятен не скрывают ясного, набело переписанного текста Заглавия никакого, только на самом верху рукою Пушкина - "№ 1". Чуть ниже первые строки:
"По смерти Петра I движение, передан ное сильным человеком, все еще продол жалось в огромных составах государств;" преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспомина ния старины мало-помалу исчезали..."Последние строки на последнем листе:"Царствование Павла доказывает одно. что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie gouvernement est un despotisme mitige par la strangulation [2] 2 авг<уста> 1822 г.".В Полное собрание пушкинских сочинений эти страницы входят под условным названием "Заметки по русской истории XVIII века" и доныне остаются одними из самых необъясненных. Эта рукопись ведет в самые неведомые области пушкинского мира, где "по соседству" создаются поэмы и эпиграммы столь определенного свойства, что им еще почти столетие печати не видеть; где от целой главы самой большой поэмы остается лишь зашифрованный листок да черновик трех строф.Если бы пушкинские "Заметки по русской истории..." не завершались точной датой - 2 августа 1822 года и если бы эта дата не подтверждалась "перекрестными" доказательствами, вряд ли бы кто-нибудь решился приписать эти страницы двадцатитрехлетнему. Гениальными юношескими стихами нас не удивить, но изумляет суровая, откровенная проза, да к тому же проза историческая, то есть требующая, кроме таланта, специальных знаний и зрелых мыслей.
Не знаем или только начинаем догадываться, зачем написаны эти размышления о российской истории, когда задуманы, отчего не распространялись, где сохранялись [3].
Ни на одной странице этой рукописи не видно красных жандармских чернил, пометивших каждую тетрадь, каждое письмо и каждый клочок бумаги, оставшиеся после кончины Пушкина в его кабинете. Найдя шесть таких листов, начальник штаба корпуса жандармов генерал-майор Леонтий Васильевич Дубельт непременно представил бы их царю как документ, оскорбительный для предков монарха - от отца до прапрадеда и прапрабабки включительно. Но в день смерти поэта не было в его кабинете этих страниц, и Дубельт мог бы их прочесть в одном московском журнале только через 22 года, уже на покое, в отставке.
Имя человека, который сохранил пушкинский текст от "злого глаза...", было осторожно названо уже много лет назад:
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ.
I
Что дружба?..
"Скажи мне, кто твой друг?.." - и в сотнях знакомых, десятках приятелей и нескольких ближайших друзьях Пушкина ищем и находим - "кто он...".
В условной иерархии - знакомый, приятель, Друг - Николай Степанович Алексеев занимал около четырех лет весьма высокое дружеское звание, потому что в Кишиневе возле Пушкина не было человека более преданного и любящего (к нему обращения - "мой милый", "радость моя"), друзья же первейшего ранга - Пущин, Дельвиг - находились в столицах, то есть на другом конце двухнедельной дороги.
Два известных письма сообщают о дружбе Пушкина с Алексеевым почти все (ниже приводится их текст с краткими комментариями).
Алексеев - ПушкинуНе виделись и, вероятно, не переписывались два года, с тех пор как Пушкина выслали из Одессы в Михайловское. Сквозь строй непременных читателей чужих писем Алексеев писать не желал и хотел передать послание через Крупенских - Пещуровым: Алексей Никитич Пещуров жил в Лямонове близ Михайловского, куда Пушкин ездил в августе 1825 года, чтобы встретиться с племянником Пещурова и своим лицейским приятелем Александром Горчаковым. Алексеев по "доверенности дружбы" хорошо знал, как не хотелось. Пушкину уезжать с юга в новую ссылку, и степень товарищеского огорчения была, верно, тогда не меньшей, чем радость от хороших вестей, которая овладела Николаем Степановичем до "неизъяснимой" степени.30 октября 1826 г. г. Кишинев (XIII, 300-301): "Во время, когда я думал писать к тебе посторонними путями, любезный Пушкин, через посредство Крупенской, которая бралась доставить письмо к сестре своей Пещуровой, как узнаю, что ты в Москве. Радость овладела мной до такой степени, что я не в состоянии изъяснить тебе и представляю судить тебе самому, если разлука не уменьшила доверенности твоей к моей дружбе..."
"С какою завистью воображаю я московских моих знакомых, имеющих случай часто тебя видеть; с каким удовольствием хотел бы я быть на их месте и с какою гордостью сказал бы им: мы некогда жили вместе; часто одно думали, одно делали и почти - одно любили; иногда ссорились, но расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе. Как бы желал я позавтракать с тобою в одной из московских ресторациев и за стаканом Бургонского пройти трехлетнюю кишиневскую жизнь, весьма занимательную для нас разными происшествиями. Я имел многих приятелей, но в обществе с тобою я себя лучше чувствовал, и мы, кажется, оба понимали друг друга; несмотря на названия: лукавого соперника и черного друга, я могу сказать, что мы были друзья-соперники, - и жили приятно!"Тут за каждым словом очень многое: Алексеев воображает "московских знакомых", потому что 8 лет прошло, как Николай Степанович "променял московские ломберные столы на кишиневские танцевальные паркеты", но все оставался типичным москвичом. Жили вместе- около года, не только в одном доме, но и в одной комнате, и, конечно, у Алексеева Пушкин останавливался, наезжая в Кишинев уже из Одессы!
О том, что "часто одно думали и делали", - речь впереди; "почти одно любили", "иногда ссорились", "лукавый соперник" - все это о полушутливом ухаживании Пушкина за госпожой Эйхфельдт, женой скучного статского генерала, прозванной "Еврейка" (за сходство с Ревеккой из "Айвенго"), - объектом страсти, и, кажется, небезответной, Николая Степановича Алексеева. Тогда образовалась ситуация, одна из самых благоприятных для мужской дружбы: двое влюблены в одну, но не слишком; ссорятся, мирятся, один уступает другому - и становятся друг другу дороже и ближе... Прозвище "черный друг" относилось не к душе Николая Степановича, но к его бакенбардам, смуглой коже и одновременно - па родировало модные наименования романтического соперника. "Лукавое соперничество" было увековечено не в одном стихотворении. Двадцатидвухлетний Пушкин с наслаждением поучал тридцатидвухлетнего Алексеева:
Люби, ласкай свои желанья,
Надежде и еврейке верь -
Как тень пройдут любви мечтанья,
И станешь тем, что я теперь [4].Алексеев не напоминает Пушкину многих подробностей "приятной жизни": не вспоминает о дуэли с полковником Старовым, где Алексеев был секундантом, и о ссоре с молдавским боярином Балшем, когда Алексеев удержал руку Пушкина с занесенным тяжелым подсвечником; не напоминает, что подарил Пушкину громадные приходо-расходные книги масонской ложи "Овидий", куда рукою поэта были занесены сотни черновых стихотворных строк... Да Пушкин и сам все помнил.
"Теперь сцена кишиневская опустела, и я остался один на месте, чтоб, как очевидный свидетель всего былого, мог со временем передать потомству и мысли и дела наши. Все переменилось здесь со времени нашей разлуки: Сандулаки вышла замуж: Соловкина умерла: Пулхерия состарилась и в бедности; Калипсо в чахотке; одна Еврейка осталась на своем месте: но прежних дней уж не дождусь: их нет, как нет! Как часто по осушенным берегам Быка хожу я грустный и туманный и проч., вспоминая милого товарища, который умел вместе и сердить и смешить меня. Самая madarne Вольф сильно действует на мое расположение, и если ты еще не забыл этот предмет, то легко поймешь меня...!"Подчеркнутые Алексеевым имена и строки, будто условные масонские символы, молчат для непосвященных и не требуют пояснений для своих. Аника Сандулаки, едва известная пушкинистам [5], вероятно, хорошо известна Пушкину, если идет первой в списке красавиц, перед Соловкиной, о которой, как утверждает Липранди, поэт иногда "бредил", перед прекрасной Пулхерицеи Варфоломей ("Пулхерицей-легконожкой", которой Пушкин однажды просил "объявить за тайну, что влюблен в нее без памяти"); наконец, перед романтической гречанкой Калипсо Полихрони, которая прежде будто бы была возлюбленной Байрона. "Одна Еврейка осталась на своем месте", но ее, кажется, променяли на мадам Вольф, что Пушкин должен "легко понять".Может быть, Алексеев применяет к своему житью-бытью те пушкинские строки, которые от него сам слышал, или хочет показать, что заметил в печати и "Братьев-разбойников" ("Но прежних дней [6] уж не дождусь: их нет, как нет!") и "К морю" ("как часто по брегам твоим бродил я грустный и туманный"). Оба эти произведения были впервые опубликованы в 1825 году, одно - в "Полярной звезде" Рылеева и Бестужева, второе - в "Мнемозине" Кюхельбекера: едва 3 месяца минуло, как один из этих пушкинских друзей-издателей был повешен, а двое других до конца дней ушли в ссылку.
"Место Катакази занял Тимковской, ты его, верно, знаешь: он один своим умом и любезностью услаждает скуку. Ты, может быть, захочешь узнать, почему я живу здесь так долго, но я ничего тебе сказать не в состоянии; какая-то тягостная лень душою овладела! Счастие по службе ко мне было постоянно: за все поручения, мною выполненные с усердием, полу-милорд наградил меня благодарностью и несколько раз пожатием руки; чины же и кресты зависели от окружающих, коих нужно было просить, а я сохранил свою гордость и не подвинулся ни на шаг. Теперь его черт взял, он отправился в Англию..."Снова в алексеевской прозе запрятаны пушкинские стихи "Тягостная лень душой овладела" из стихотворения "Война" (1821 г.): тут же - "полу-милорд, полукупец...". На полумилорда Воронцова они давно выработали общее воззрение: Алексеев, как видно, любил своего начальника не больше, чем прежде любил его Пушкин.По службе Алексеев при Воронцове не преуспел; надеялся, правда, на могущественного родственника и покровителя П. Д. Киселева, однако Пушкин, по словам Липранди, "пророчил Алексееву разочарование в своем идоле, что действительно этот, в полном смысле достойный человек через тридцать лет испытал..." [7].
"Но я ожидаю способов возвратиться в Москву белокаменную и соединиться с друзьями, но:
Меж нашими рядами!"Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь: удостоенный некогда целого послания от тебя, я вправе надеяться получить несколько строк, а также, если можно, и чего-нибудь нового из твоего произведения. Я имел первую часть Онегина, но ее кто-то зачитал у меня; о второй слышал и жажду ее прочесть. Если вздумаешь писать ко мне, то надписывай прямо в Кишинев, а всего лучше пошли в дом Киселевых, кои ко мне доставят и таким образом будут нашим почтамтом".Стихотворные строки Жуковского ("Певец во стане русских воинов") относились ко многим из "наших рядов", погибших, в 1812-м, но Алексеев, конечно, подразумевает декабристов. Многие осужденные члены тайного общества (как и нераскрытые кишиневские заговорщики) были задушевными друзьями и Алексеева и Пушкина [8] Оба они почти одновременно вступили в полузаговорщическую масонскую ложу "Овидий". 26 мая 1821 года Пушкин отметил свое двадцатидвухлетие дневниковой записью: "Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пущин [9], Алексеев и Пестель..." Пестеля, Владимира Федосеевича Раевского и многих-многих других в 1826 году уж "взор наш не найдет меж нашими рядами...".Столь откровенное послание Алексеев не может доверить почте, тем более что в первых же строках сообщает, как искал оказии, чтобы написать письмо в Михайловское. Обыкновенные "почтамты", имеющие непреодолимую привычку к распечатыванию чужих писем [10], Алексеев предлагает заменить московской квартирой Киселевых: туда, вероятно, и отправилось это письмо, врученное сначала на юге Павлу Киселеву. Начальник штаба 2-й армии. разумеется, переписывался со своими московскими родственниками без жандармско-шпекинского вмешательства. Однако не мог Алексеев предвидеть, что 9 февраля 1837 года в бумагах умершего Пушкина это письмо прочтет и пометит красным жандармским номером генерал-майор Дубельт. Однако "за давностью" ничего опасного в нем не заметит.
"Я часто говорю о тебе с Яковом Сабуровым, который вместе со мною в комиссии по делам Варфоломея, - он тебя очень любит и помнит. Липранди тебе кланяется, живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает откуда берет деньги. Прости, с нетерпением ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет ещеИ в последних, и в предшествующих строках находим: "Если разлука не уменьшила доверенности твоей..."; "Расстались друзьями, или, по крайней мере, я так льстил себе..."; "Если ты еще не забыл..."; "Меж тем я уверен, что ты меня вспомнишь"; "Ожидаю удостоверения, что в твоей памяти живет еще...". Равенство дружбы... Но Алексеев не забывает, что его друг - человек необыкновенный, который, конечно, не сможет забыть прежнего, но при этом - "прежних дней уж не дождаться..."; "удостоверение дружбы" - это, между прочим, "несколько стихотворных строк", которых ожидает Алексеев: ведь кроме послания к нему, которое печаталось ("Мой милый, как несправедливы твои ревнивые мечты..."), к старой дружбе-соперничеству относятся, вероятно, еще несколько стихотворений - "Не притворяйся, милый друг...", "Мой друг уже три дня...", наконец, "Гавриилиада", где соперничество из-за прекрасной Еврейки возведено из "кишиневского масштаба" в космический...Алексеев. 30 октября".
В конце письма снова звучат знакомые обоим имена: Яков Сабуров, из старинных пушкинских гусарских приятелей; снова Варфоломей - отец Пульхерицы - при Пушкине богатый откупщик, но успевший уж разориться (по его делам "комиссия", а Пульхерица "в бедности"). Наконец, Липранди - загадочный, "дьявольский", как Сильвио из "Выстрела", как "другой Калиостро" - маг, фокусник, шарлатан, добывающий деньги "бог знает откуда" (деньги Липранди получал для организации разведки на турецкой территории).
Можно к этому всему только добавить, что письмо Алексеева написано хорошо и живо: "Русская и французская литература не были ему чужды, - вспоминал Липранди. - Он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть" [11].
Пушкин - Алексееву 1 декабря 1826 года (XIII, 309)
"Приди, о друг, дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей!.."На лету подхвачен стиль, предложенный Алексеевым, - в письмо вплетаются подходящие к случаю строки Жуковского.
Еще и трех месяцев не минуло, как Пушкина освободили. Уже свободным едет из Москвы в Михайловское, но на обратном пути опрокинут и помят ямщиками, отлеживается в псковской гостинице, "бесится, играет и проигрывает", а 1 декабря, кажется, взялся написать всем друзьям подряд, кому задолжал ответом: кроме Алексеева, пишет Вяземскому, Зубкову и Соболевскому. (Через несколько дней, накануне первой годовщины 14 декабря, напишет еще одному: "Мой первый друг, мой друг бесценный...")
"Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный и чопорный, кишиневские звуки, берег Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый мой: ты возвратил меня Бессарабии! я опять в своих развалинах - в моей темной комнате, перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского <...>. Опять рейн-вейн, опять Champan, и Пущин, и Варфоломей, и всё..."Бывало, хотелось из Кишинева бежать куда угодно ("Проклятый город Кишинев! Тебя бранить язык устанет..."). А через 4 года - "Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии". Михайловское - тоже было "тюрьмой" ("мраком заточенья"), но за несколько дней до этого письма отправилось послание Вяземскому: "Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму". Слух Пушкина ласкают кишиневские звуки. Таков поэт: и "берег Быка", и "Калипсо", и "Еврейка" - это прежде всего звучание Кишинева, недавнего прошлого. И Соловкина, по которой "бредил", не воспринята как реальная личность: не смерть ее, но имя взволновало Пушкина - "Соловкина... Бык, Еврейка, Варфоломей, рейн-вейн...""Как ты умен, что написал мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблюдать твои маневры вокруг острога".Пушкин уехал с юга, "по этикету" должен бы написать первым, да не догадался. Старая дружба легко может возобновиться при встрече, но три года и сотни верст разделяют, и, кроме как о прошлом, говорить почти не о чем. Да в письмах и нельзя откровенничать. Слова "вокруг острога" позже густо зачеркнуты. Может быть, самим Алексеевым или каким-то перепуганным потомком? Возможно, в этих словах скрывается какой-то особый, опасный смысл (между прочим, в той же дневниковой записи, где Пушкин отметил посещение Алексеева и Пестеля, дальше следовало: "Потом был я в здешнем остроге...")."Был я в Москве и думал: авось, бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего черного друга, или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет - так и уехал во Псков - так и теперь опять еду в белокаменную. Надежды нет иль очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости кишиневские стану тебя потчевать новостями московскими. Буду тебе сводничать старых твоих любовниц... Я готов доныне идти по твоим следам, утешаясь мыслию, что орогачу друга".Вероятно, в годы оны в Кишиневе много толковали о родной Москве и о прежних похождениях Николая Степановича, что дает Пушкину повод еще раз намекнуть на старое соперничество и госпожу Эйхфельдт и снова - скрытые стихи; "Надежды нет иль очень мало" - а в сказке "Царь Никита и сорок его дочерей", написанной в Кишиневе за четыре года до этого письма, - "ничего иль очень мало"."Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казенный и не соткнулись где-нибудь".Письмо, посланное Вяземскому через Киселевых, прежде попадет на псковскую почту. Поэтому строки о Липранди самые смелые во всем тексте: "на счет казенный". Пушкин ездил в ссылку и из ссылки, Липранди же был взят под арест по делу 14 декабря, но сумел оправдаться."Прощай; отшельник бессарабской,"Удостоверение дружбы" - несколько новых стихотворных строк. "Отшельник бессарабской" и "Лукавый друг" - понятны, последние же две строки, видимо, скрывают какой-то смысл. Если не усмирить вовремя фантазию, то легко вообразить: поскольку Алексеев знал Пестеля и посещал вместе с ним Пушкина, то "Русская правда" - возможно, Пестелева программа переустройства России... Но надо вовремя усмирять фантазию.
Лукавый друг души моей -
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.А. П. 1 дек."
В тот же день, 1 декабря 1826 года, Пушкин запечатал письмо и на конверте написал: "Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Москве, в Чернышевском переулке, в собственном доме". В том же конверте отправилось и послание к хозяину "собственного дома", начинавшееся со слов: "Ангел мой Вяземской... пряник мой Вяземской!" - и заканчивавшееся: "При сем письмо к Алексееву (род моего Сушкова), отдай для доставки Киселеву - вой, вым, как хошь".
Еще в начале нашего века Николай Осипович Лернер справедливо заметил, что последние строки хоть и не совсем понятны, но, кажется, содержат нечто обидное для кишиневского друга: о посредственном литераторе Сушкове Пушкин обычно отзывался иронически. Кишиневских приятелей еще соединяло прошлое, но уже разделяло настоящее...
Изгнание на юг некогда ослабило связи Пушкина с лицейскими и петербургскими друзьями; такое удаление от школьных воспоминаний очень часто завершается окончательным уходом в совершенно другую сферу отношений, откуда к прошлому нет никакого возвращения.
Но счастлив тот, кого жизнь после разлуки снова сводит с повзрослевшими однокашниками. И тогда им уж не разойтись: вторая дружба реставрирует, сохраняет и укрепляет первую со всей силою постоянства, приходящего с годами.
19 октября 1825 года Пушкин прощался или отрекался от южных привязанностей; все же оказалось, что, куда бы ни бросала судьбина и ни повело счастье,
...Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское село...Так уходила в прошлое кишиневская дружба-соперничество.
Встретились ли после хоть раз Алексеев с Пушкиным?
Сохранилось еще одно письмо Александра Сергеевича Николаю Степановичу (1831 год, из Петербурга в Молдавию) да три послания Николая Степановича Александру Сергеевичу: одно - 20 марта 1827 года из крепости Хотин, где Алексеев сидел под арестом за дуэль; другое - из дунайских княжеств в 1831 году, последнее - кажется, оттуда же, в 1835-м. Еще уцелела "История Пугачевского бунта" с посвящением "Любезному другу Алексееву от Пушкина в память былова" [12].
В тридцатых годах, судя по сохранившимся письмам, "черный друг" появлялся в Петербурге...
Сначала кишиневская близость, позже - теплота воспоминаний и отдаленность: кажется, тема "Пушкин и Алексеев" исчерпана... Николай Степанович пережил Пушкина, карьеры не сделал, всю жизнь оставался по доброте, лени и бескорыстию чисто московским барином и в конце концов возвратился в белокаменную, где коротал век со старыми кишиневскими москвичами - Александром Фомичом Вельтманом и Владимиром Петровичем Горчаковым. Несколько бессарабских, пушкинских, лет оставались, видно, лучшим временем его жизни; о смерти же Николая Степановича долгое время были известны только следующие строки престарелого Ивана Липранди:
"Во время отъезда моего в 1851 году за границу Н. С. Алексеев взял у меня и то и другое <тюремные стихи В. Ф. Раевского - "Певец в темнице" и послание Пушкину>, - а равно и пять писем Пушкина: возвратясь, не нашел я его в Петербурге, и он вскоре умер в Москве. Здесь я слышал, что будто бы он кому-то отдал мне возвратить" [13]Единственно по этой записи определен год смерти Николая Степановича: 1851-й или 1852-й (иногда писали осторожнее - 1850-е годы).Итак, последнее сохранившееся известие об Алексееве представляет его читающим исчезнувшие позже пушкинские письма к Липранди, а также стихи старинного кишиневского друга, "первого декабриста" Владимира Федосеевича Раевского, отбывавшего в Сибири уж третье десятилетие.
II
Мой милый, как несправедливы...
Обыкновенность Алексеева и отношения с Пушкиным - "как у многих" - кажется, отпугнули исследователей. Почти никто этим человеком серьезно не интересовался - только между делом, "для комментария". Что можно было извлечь о Пушкине и Алексееве из стихов, писем, воспоминаний - давно извлекли. Но даже извлеченное, то есть давно и хорошо известное, видимо, никто не суммировал. Меж тем обыкновенное сложение ведет к несколько ошеломляющему итогу...
Итак, простая задача: какие были у Алексеева тексты, письма, воспоминания и другие материалы, имеющие прямое или косвенное отношение к биографии и творчеству, "трудам и дням" Пушкина?
Алексеевская пушкиниана:
"Заметки по русской истории XVIII века", с которых началось наше повествование и которые - главная цель его. Через 15-20 лет после смерти Пушкина этот текст впервые попадает к историкам и пушкинистам. В 1859 году наиболее безобидные отрывки пробивает сквозь цензуру и печатает в журнале "Библиографические записки" Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, человек, сделавший очень много для сохранения декабристского и пушкинского наследства. В тетрадях Евгения Ивановича и его друзей отмечается, что сочинение это "писано в Кишиневе в 1821-22 гг." и "сохранилось в сборнике Алексеева" [14].
"Гавриилиада". Пушкин написал поэму в 1821 году, но рукопись либо уничтожил, либо так спрятал, что почти полтора века найти ее не могут. А сложилась она на глазах кишиневских друзей и, по-видимому, начиналась с какого-то стихотворного посвящения, от которого уцелели только небольшие черновые наброски.
Изучавший текст "Гавриилиады" Борис Викторович Томашевский вместе с другими авторитетами видел здесь стихотворное посвящение Алексееву [15]. В списке "Гавриилиады", принадлежавшем В. П. Гаевскому (середина XIX века), против строк
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает офицербыло написано "Алексеев" [16] (в той же степени, в какой статский советник Эйхфельдт мог считаться генералом, надворный советник Алексеев являлся офицером...).
У Алексеева была, конечно, лучшая копия (если не сама рукопись!): в 1827 году Николай Степанович вставляет в одно из своих писем к Пушкину:
- Какая честь, и что за наслажденье...
Это строчка из "Гавриилиады"... Много лет спустя, уже после смерти Пушкина, его лицейский однокашник Сергей Дмитриевич Комовский узнает от Алексеева такие строки поэмы, которых больше ни у кого не было: Пушкин, вероятно, решил не называть своих друзей по именам в опасном, кощунственном тексте, но вот что находилось прежде - на месте нынешних 403-406 строк "Гавриилиады" (драка беса с архангелом из-за прекрасной еврейки):
Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой?
Граф Брольо был отважнее, сильнее,
Комовский же - проворнее, хитрее:
Не скоро мог решиться жаркий бой.
Где вы, лета забавы молодой? (IV, 368).Noel и альбом. Знаменитый Noel ("Ура, в Россию скачет кочующий деспот!") в подлинной рукописи также неизвестен. Пушкинист прошлого века Петр Александрович Ефремов записал в своей тетради стихотворение с таким примечанием: "Исправлено по списку с рукописи Пушкина из альбома Н. С. Алексеева" [17]. Те же строки сохранились в сборнике Е. И. Якушкина и в тетради известного литератора и фольклориста Александра Николаевича Афанасьева [18].
Альбом или сборник Алексеева!.. Там же, вероятно, были "Заметки по русской истории XVIII века" и "Гавриилиада", а также стихи, посвященные Алексееву и "соперничеству"...
Приятель Пушкина и Алексеева писатель Александр Вельтман свидетельствовал: "Вероятно, никто не имеет такого сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям" [19] То есть не могут быть изданы, потому что задевают власть, религию, высоких лиц и прочее, чего касаться нельзя, - "по отношениям...".
Уже перечисленного, конечно, достаточно, чтоб понять, какова была пушкиниана Алексеева. Но это еще далеко не все.
Вот строки из последнего сохранившегося письма Николая Степановича к Пушкину (23 января 1835 года):
"В скором времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть: эпоху кишиневской жизни; они сами по себе ничтожны; но с присоединением к твоим могут представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на пути жизни. В заключение напомню тебе об обещанном экземпляре Пугачева с твоей подписью, которые не раз уж украшали полученные мною от тебя книги".Вряд ли Алексеев отвечает на письмо - скорее была встреча: Пушкин обещал подарить "Пугачева..."; как и многих других, уговаривал приятеля составлять записки. Вероятно, "в назидание" познакомил Алексеева с тем своим замыслом, о котором свидетельствует так называемая "вторая программа записок" (1833 год), почти целиком посвященная кишиневскому времени (см. XII, 310).Из письма видно, что, кроме "Пугачева", были еще книги, надписанные Пушкиным (и может быть, письма, их сопровождающие) [20] и что существовали записки Алексеева, в которых, конечно, очень много о Пушкине.
Записки, не дошедшие ни к нам, ни даже к Пушкину...
Прибавив к собранию Николая Степановича также и взятые им перед смертью письма Пушкина к Липранди, мы поймем, что не слыхали о более значительной из пропавших пушкинских коллекций.
Следы алексеевского собрания ведут к бумагам Павла Васильевича Анненкова.
Ill
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет...Посмертное, одиннадцатитомное Собрание сочинений Пушкина было завершено в 1841 году. Нового издания дожидались 14 лет, пока за дело не принялись два блестящих генерала - Иван и Федор Анненковы, любившие и почитавшие Пушкина, вопреки положенному им генеральскому пренебрежению к памяти поэта.
Генералы были дружны с другим генералом, П. П. Ланским (вторым мужем Натальи Николаевны Пушкиной) и однажды сообщили ему и семье его о своем желании осуществить новое, настоящее издание Пушкина - неполнота и несовершенство посмертного одиннадцатитомника были слишком очевидны!
Получив согласие, братья-генералы заключили с Ланским формальный контракт, и вслед за тем к ним прибыл целый большой сундук, набитый пушкинскими тетрадями и бумагами.
Генералы Анненковы достаточно почитали Пушкина, чтобы понять, как мало у них знаний и опыта для подготовки образцового научного издания, но они сумели уговорить (не без труда!) своего младшего брата, 36-летнего литератора Павла Анненкова.
Павел Васильевич Анненков перевез к. себе сундук с бумагами осенью 1850 года, поработал три года, еще год потратил на печатание и цензуру (связи старших братьев, конечно, помогли) и в 1855 году выпустил шесть томов (в 1857-м - дополнительный, 7-й том), в которых было много новых или исправленных текстов.
Первый том своего издания Анненков назвал "Материалы к биографии А. С. Пушкина", и хотя уже больше столетия прошло, как вышел этот том и очень многое в нем устарело, но все же сегодня это одна из лучших, если не самая лучшая, биография поэта.
Тому виною два обстоятельства: Первое - литературный талант и художественный вкус Анненкова; анненковский научный разбор не губит художественности, а художественность - не за счет науки.
Второе обстоятельство - богатство его источников.
Ни один исследователь - ни до, ни после Анненкова - не располагал столь полным собранием пушкинских рукописей (позже они "разбрелись": сам Анненков не вернул Ланским несколько сот листов) [21].
Составляя первую научную биографию Пушкина, Анненков, разумеется, обратился к друзьям поэта, которые в 1850-х годах еще здравствовали, а многие даже не успели еще слишком состариться. Позже признавался, что "Биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо больше разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения" [22].
В те же годы принялся записывать рассказы пушкинских друзей и молодой кандидат Московского университета Петр Иванович Бартенев. Хотя Анненков и Бартенев оказались в некоторой степени конкурентами и Анненков сердился, но 100 лет спустя имена этих людей сближают куда чаще, чем при жизни: они успели собрать такие рассказы о Пушкине, такие материалы к его биографии, которые уж лет через 10-20 не нашлись бы. Местонахождение некоторых документов, что были в руках Анненкова и Бартенева, сейчас неизвестно, так что их труды являются отчасти и первоисточниками.
Многое из собранного напечатать негде было и осталось в бумагах, дожидаясь "доброго цензора". И без того глава петербургской цензуры М. Н. Мусин-Пушкин был недоволен некоторыми из новоразрешенных текстов и жаловался, что "целое ведомство принесено в жертву одному человеку" (неясно только, Анненкову или Пушкину?).
Еще два десятилетия прошло; пореформенная цензура, даже зверствуя, была добрее самых мягких николаевских цензоров, и тогда 60-летний Анненков, уже знаменитый литератор и мемуарист, напечатал новый большой труд - "А. С. Пушкин в Александровскую эпоху".
Эта книга, при многих несовершенствах, также остается одной из лучших, талантливейших биографических работ о Пушкине в детстве и лицее, на юге и в Михайловском... И снова в эту работу были вкраплены новые тексты и неизвестные прежде воспоминания.
Анненков скончался в 1887 году, его архив поступал в Академию наук по частям в течение десятилетий. Основную часть собрания П. П. Анненков, сын Павла Васильевича, продал Пушкинскому дому в 1925 году.
Изучал бумаги Анненкова Борис Львович Модзалевский (о котором говорили, что "все о Пушкине знают лишь Цявловский в Москве и Модзалевский в Ленинграде, а уж чего они не знают - того никто не ведает..."). Интереснейшая работа Б. Л. Модзалевского о неопубликованных пушкинских материалах, хранившихся в архиве Анненкова, появилась в 1929 году, а через несколько лет в Поволжье обнаружилась еще часть анненковского собрания, непосредственно относящаяся к Пушкину.
И все же многие важные рукописи из архива первого пушкиниста так и не достались нам...
Отступление об Анненкове и его бумагах - необходимое звено в рассказе об архиве Алексеева.
Дело в том, что во всех своих работах Павел Васильевич больше всего жаловался на недостаток материалов о кишиневских и одесских годах поэта. В столицах жили многие хорошо помнившие Пушкина: там можно было воспоминания родственников и друзей проверить рассказами других очевидцев, свидетельствами третьих, сплетнями четвертых... Труднее было найти южных друзей, достаточно близких к юному Пушкину и вовремя понявших, что о Пушкине надо побольше запомнить и записать.
Главным источником наших сведений о кишиневских годах Пушкина были и остаются воспоминания И. П. Липранди. Но открылись они, в сущности, случайно, в 1866 году, так что в 1850-х годах Анненков про них и не знал, а к самому Липранди не обращался (друг Герцена, Огарева, Белинского, Грановского, возможно, стеснялся иметь дело с одиозной фигурой "гениального сыщика", как Липранди аттестован в анненковских воспоминаниях о 40-х годах).
Не желая ограничиваться отдельными напечатанными воспоминаниями о пушкинском Кишиневе и Одессе (Ф. Ф. Вигеля, В. П. Горчакова), Анненков 5 декабря 1852 года известил историка М. П. Погодина, что писал "...к Вельтману и Полторацкому, прося их о сообщении историй их знакомства с Пушкиным, особенно касательно кишиневской и одесской ее эпох, но ответов еще не получил" [23].
А. Ф. Вельтман, по-видимому, тогда же показал Анненкову свои небольшие записки о Бессарабии. Когда составлялись эти записки, неясно, но сохранились они на бумаге с водяным знаком 1837 года [24], и в них встречается уже цитированная фраза: "Вероятно, никто не имеет такого собрания всех сочинений Пушкина, как Алексеев". Прочитав такие слова, Анненков обязан был найти Алексеева, если только не встретился с ним еще прежде. Нашел ли?
Об этом как-то не думали, тем более что оставалась неясной дата смерти Николая Степановича: если 1851-й, то Анненков вряд ли успел бы его расспросить. Но, заметим, Вельтман говорит об Алексееве как о живом и здравствующем ("никто не имеет такого собрания..."). Заметим также, что оба письма Пушкина к Алексееву Анненков знал: отрывки из письма от 1 декабря 1826 года вместе со стихами- "Прощай, отшельник бессарабской..." впервые появились в печати на страницах анненковских "Материалов для биографии Пушкина" под заглавием "Послание к Н. С. А.......ву, товарищу своего бессарабского житья-бытья" [25].
В бумагах Анненкова сохранились точные копии обоих писем Пушкина к "черному другу", и притом отмечены разнообразные подробности: что одно из писем "без почтового штемпеля" (оказия!) и адресовано "Его высокоблагородию милостивому государю Николаю Степановичу Алексееву в Бухарест", и что "на другом листке этого письма есть приписка, сделанная С. Д. Киселевым", и, наконец, что письмо Пушкина "истыкано дырами" [26].
Больше полувека никто не знал, где находятся подлинники этих писем, и печатали их именно по анненковским копиям.
Но существование этих копий ведь доказывает, что Анненков и Алексеев либо переписывались, либо встречались...
Ссылок на Алексеева, даже полускрытых, в "Материалах" больше не встречается. Зато в книге "А. С. Пушкин в Александровскую эпоху" (1874 год) Анненков много откровеннее: в V главе находим следующие строки об Иване Никитиче Инзове, начальнике и доброжелателе Пушкина:
"Инзов, между прочим, исповедовал - как и вся его партия - известное учение о благодати, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине, с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н. А. Алексеева [27], он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту" [28].А вот что пишет Анненков о салонах Эйхфельдт и Варфоломей в кишиневских домах:"Обе героини, Эйхвельт и Варфоломей, имели еще по приятельнице, из которых каждая не уступала им самим ни в красоте, ни в жажде наслаждений, ни в способности к бойкому разговору [29]. Между этими молодыми женщинами Пушкин и тогдашний его поверенный по всем делам кишиневской жизни Н. С. Алексеев, к которому он скоро и переселился на житье из строгого дома генерала Инзова, и устроили перекрестную нить волокитства и любовных интриг. Все эти сведения нужны еще и для того, чтобы понимать намеки в некоторых стихотворениях и в последующей переписке Пушкина" [30].О кишиневских похождениях Анненков знает многое:"Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрошеный человек на пути, вроде неизвестного француза по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно, для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов, приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам Н. С. Алексеевым:В дневнике Пушкина сохранилось только начало этого послания, Анненков же, очевидно, получил от Алексеева полный текст записки к Дегильи, завершившей одно из бесчисленных бреттерских приключений поэта."К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера.Недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую.
Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта [31].
Все то, что случилось, я предвидел заранее, и жалею, что не побился об заклад. Теперь все кончено, но берегитесь.Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.
6 июня 1821.
Пушкин.
Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли" [32].
Наконец, Алексеевым, по всей видимости, сообщен весь отрывок, предшествующий последнему упоминанию его имени в VI, "одесской" главе книги Анненкова:
"Другое отличие Одессы состояло в том, что узлы всех событий распутывались здесь уже гораздо труднее, чем в Кишиневе. Там легко и скоро сходили с рук Пушкину и такие проделки, которые могли разрешиться с настоящую жизненную беду; здесь он мог вызвать ее, и ничего не делая, а оставаясь только Пушкиным.Встречался ли Анненков с престарелым "бессарабским отшельником", слушал ли его рассказы или копировал, читал его записки?Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения - наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни. Собственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и помечатели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный им материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородным движением сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности.
Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так сказать, в пустоте и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути. Он скоро прослыл потерянным человеком между "благоразумными" людьми эпохи, и это в то самое время, когда внутренний мир его постепенно преобразовывался, место неистовых возбуждений заняло строгое воспитание своей мысли, а умственный горизонт, как сейчас увидим, значительно расширился. Опасность его положения в Одессе не скрылась от глаз некоторых его друзей, как, например, от Н. С. [33] Алексеева. Пушкин был гораздо ближе к политической катастрофе, становясь серьезнее, чем в период своих увлечений. Эта ирония жизни или истории не новость на Руси.
Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в себе негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он .спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы" [34].
К сожалению, ни записей этих бесед, ни подготовительных материалов к книгам Анненкова не сохранилось. Но воспоминания Алексеева, без сомнения, один из его источников.
Кстати, можно привести еще несколько "южных рассказов" Анненкова, которые, кажется, не заимствованы ни из каких известных мемуаров о Пушкине и по духу самого рассказа могут быть хотя бы частично приписаны Николаю Степановичу.
Из "Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина" (1855) [35].
"В Кишиневе <...> Пушкин жил в обществе своих военных соотечественников и, говорят, довольно забавно сердился на их военную прислугу, плохо слушавшую его приказания и обносившую его за обедами. Пестрота, шум, разнообразие тогдашнего Кишинева произвели довольно сильное впечатление на Пушкина: он полюбил город <...>. От пребывания его в Кишиневе осталось еще воспоминание в двух стихотворениях: "Гречанке" ("Ты рождена воспламенять...") и "Иностранке" ("На языке тебе невнятном..."). О первой Пушкин сбеpeг заметку в записках своих, где назвал ее: "прелестной Гречанкой". Иностранка, имя которой тоже не сохранилось у нас на Руси, замечательна еще особенной характеристической подробностью, касающейся Пушкина. После двухлетнего знакомства она узнала, что Пушкин - поэт, только по стихотворению: "На языке тебе невнятном...", вписанному в ее альбом уже при расставании. "Что это значит?" - спросила она у Пушкина. "Покажите это за границей любому русскому, и он вам скажет!" - отвечал Пушкин.Из книги "А. С. Пушкин в Александровскую эпоху" [36]:<...> Шумная жизнь Кишинева не могла обойтись без хлопот. Природная живость Пушкина, быстрота и едкость его ответов, откровенное удальство нажили ему много врагов и иногда, по справедливости, возбуждали жалобы. Генерал Иван Никитич Инзов отрывался от важных своих занятий, чтоб устроивать дела ветреного своего чиновника. Он разбирал его ссоры с молдаванами; взыскивал за излишне резвые проделки; наказывал домашним арестом. приставлял часовых к его комнате и посылал пленнику книги и журналы для развлечения. Пушкин любил Инзова как отца. О тогдашних шалостях кишиневской молодежи сохранилось в городе некоторое воспоминание и до сих пор <...>. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела, однакож, с великим присутствием духа, и проч. и проч.".
"Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова так, как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 году Инзов сдал должность начальника новороссийского края, которую исправлял с июля 1822 года, графу М. С. Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику - бывшего своего чиновника, столько им любимого, - Пушкина. "Ведь он ко мне был послан", - жаловался добрый старик. <...>Разумеется, нельзя ручаться, что все эти сведения получены только от одного Алексеева, хотя именно он принадлежал к "добрым, простым, честным людям", с которыми Пушкин "свободнее всего раскрывал свою душу и сердце...".Кишиневское общество, как и всякое другое, искало удовольствий и развлечений, но благодаря своему составу из помеси греко-молдаванских национальностей оно имело забавы и наклонности, ему одному принадлежащие. Многие из его фамилий сохраняли еще черты и предания турецкого обычая, что в соединении с национальными их пороками и с европейской испорченностию представляло такую смесь нравов, которая раздражала воображение и туманила рассудок, особенно у молодых людей, попадавших в эту атмосферу любовных интриг всякого рода. По внешности кишиневская жизнь ничем не отличалась от жизни губернских городов наших: те же рауты, балы, игрецкие дома, чопорные прогулки в известной части города по праздникам, беготня и поздравления начальников в торжественные дни и проч., но эта обстановка едва прикрывала своеобычные черты домашнего и нравственного быта жителей, не встречавшиеся нигде более, кроме этой местности.
С первого раза бросалось в глаза повсеместное отсутствие в туземном обществе не только моральных правил, но и просто органа для их понимания. То, что повсюду принималось бы как извращение вкусов или как тайный порок, составляло здесь простую этнографическую черту, до того общую, что об ней никто и не говорил, подразумевая ее без дальнейших околичностей. Правда, что в некоторых домах все крупные этнографические черты подобного рода стояли открыто на виду, а в других таились глубоко в недрах семей, но отыскать их там находились всегда охотники, заранее уверенные в успехе.
Люди заезжие из России употребляли на поиски этих редкостей много времени, и не очень давно встречались еще старожилы, которые признавали свою кишиневскую жизнь самым веселым временем своего существования. Пушкин не отставал от других. Душная, но сладострастная атмосфера города, малоэстетические, но своеобразные наклонности и привычки его обитателей действовали на него как вызов. Он шел навстречу ему, как бы из "point d'honneur" [37]. Картина Кишинева, которую здесь представляем, оправдывается всеми свидетельствами современников, несмотря на многочисленные их умолчания и вообще смягчающий тон. Мы не преувеличиваем ее выражения, а скорее еще не уловили вполне характера распущенности, каким отличался город в самом деле. Это подтверждается и фактами. <...>
Были минуты, и притом минуты, возвращавшиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостию, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда - хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству.
Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера: он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдобайронического кодекса, учившего презирать людей без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожать в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего, неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать. стремления и заветные надежды лица, как еще они ни были далеки от его собственных идеалов, и при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности.
Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельное занятие, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти; но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией - именно поэзия...".

Н. С. Алексеев. Рисунок Куазена, 1825 г.
Однако Анненков получил от Алексеева не только исчезнувшие его "Записки" и сохранившиеся копии писем.
Что первый пушкинист не решился или не смог напечатать, то он частично роздал другим - уже упоминавшимся Е. И. Якушкину, А. Н. Афанасьеву и П. А. Ефремову. В конце пятидесятых - начале шестидесятых годов Е. И. Якушкин и его друзья сумели провести в печать немало "опасных текстов", а что не сумели - отправили в Лондон, где самые запретные страницы напечатали Герцен и Огарев в своей "Полярной звезде" и других изданиях [38].
Анненковская копия "Ноэля" ("Ура, в Россию скачет..."), к сожалению, не сохранилась.
Зато уцелел список с "Заметок по русской истории XVIII века" (не устанем повторять, что название это условное, что у Анненкова было заглавие "Некоторые исторические замечания", а в сохранившейся рукописи Пушкина - никакого заглавия: только "№ 1").
Кстати, копия эта снята рукою генерала Федора Васильевича Анненкова, который (как и другой брат, Иван Васильевич) не совсем устранился от громадных трудов Анненкова-младшего.
В конце рукописи следует пояснение уже почерком Павла Васильевича: "Написано в Кишиневе и списано со сборника Н. С. А...... ва" [39].
Документ столь опасен, что даже в "домашних бумагах" рискованно называть источник получения. Вероятно, лишь после смерти Николая Степановича Анненков перечеркнул "закодированную" фамилию и написал сверху: "Алексеев". Маленькая подробность: почерк Федора Васильевича позволяет заподозрить, что с Алексеевым непосредственно общался старший Анненков и передавал все добытое младшему (который с 1851 года сидел в деревне и разбирал кипы пушкинских бумаг). Но если так, то надо поискать еще какие-либо пушкинские копии, сделанные Ф. В. Анненковым и относящиеся к кишиневским и одесским временам.
В Пушкинском доме сохранился большой лист, на одной стороне которого рукою Федора Анненкова списано пушкинское послание "Вигелю":
Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить не перестану...На обороте листа - известное стихотворение "Генералу Пущину":
В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога...К последнему - примечание, рукою того же Федора Анненкова: "Он <П. С. Пущин > был председателем масонской ложи в Кишиневе. Стих написан експромтом" [40].
Вполне возможно, что это списано с "альбома" или "сборника" Алексеева: Оба стихотворения - из Кишинева. Оба скопированы Ф. Анненковым. Оба никогда прежде не публиковались "по отношениям", и было бы странно, если б их не оказалось в собрании Николая Степановича.
Примечание ко второму стихотворению могло быть сообщено только кишиневским приятелем Пушкина - кто знал и про "експромт", и про масонскую ложу: Алексеев же как раз был казначеем ложи "Овидий", куда входил Пушкин и которую возглавлял генерал Пущин... [41].
Итак, первый пушкинист пользовался бумагами и сведениями первого кишиневского друга Пушкина.
Исчезнувшие части анненковского архива давно унесли с собою и важную часть алексеевского; разыскания уж кажутся безнадежными, и стоит ли тревожить свое и чужое воображение подлинной "Гавриилиадой", "Ноэлем" и другими, может быть, совсем неведомыми пушкинскими сочинениями, письмами, посвящениями, неизвестными воспоминаниями о Кишиневе, Одессе и т. п.?
IV
Вот почему, архивы роя...
Два довода как будто объясняют бесплодность поисков:
Первый: Столько блистательных находок сделали за столетие П. И. Бартенев, Е. И. и В. Е. Якушкины, П. А. Ефремов, Л. Н. Майков, П. О. Морозов, Б. Л. Модзалевский, М. А. Цявловский, Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов и многие другие несравненные искатели...
Однако ученые XIX и первых десятилетий XX столетия жили в эпоху великих открытий, когда сразу выявлялись целые пласты пушкинских материалов, и руки до всего не доходили... Так что первый довод - не довод.
Второй: Прошло слишком много времени, больше столетия...
Довод был бы серьезен, если б весь архив Алексеева исчез бесследно.
Но ведь это не так, и архив Алексеева бесследно не исчезал.
Больше шестидесяти лет два письма Пушкина к Алексееву - два возвращения в кишиневскую юность из последнего десятилетия пушкинской жизни - печатались по копии Анненкова, автографы же считались навсегда утерянными.
И вдруг два подлинных письма появляются. Узнав, откуда взялись эти "обломки" алексеевского архива, можно было бы двинуться по следу, пусть остывшему...
В Ленинграде хранительница пушкинских рукописей Римма Ефремовна Теребенина подсказывает мне, где и как искать: издавна все поступавшие в Пушкинский дом рукописи фиксировались, заносились в толстые "книги поступлений", и при этом обязательно выражалась благодарность тем, кто передавал драгоценный текст. Но если благодарят, то и адрес указывают, и копию благодарственного письма оставляют; так можно отыскать сведения о потомках Алексеева, а много это или мало - видно будет.
В толстом томе деловых бумаг Пушкинского дома знакомлюсь с двумя документами (вернее, с их черновиками), написанными характерным твердым и изящным почерком Бориса Львовича Модзалевского:
"№ 2451 16 января 1916 г.По этим письмам можно было, казалось, легко заключить следующее:
ПетроградЕго высокородию Н. И. Алексееву
Милостивый государь Николай Иванович!
Получив от Вас, через М. Л. Гофмана, подлинники двух писем Пушкина к Вашему деду, Николаю Степановичу Алексееву, которые Вы жертвуете в собрание Пушкинского дома при Имп. Академии наук, имею честь принести Вам от имени Высочайше учрежденной комиссии по постройке Памятника Пушкина и от моего лично выражение искренней благодарности <...> и просьбу принять при сем бронзовую медаль, выбитую Имп. Академией наук в честь столетия со дня рождения Пушкина" [42].
"№ 2458 23 января 1916 г.
Ее превосходительству Софье Ивановне Алексеевой; Петроград
Милостивая государыня Софья Ивановна!
Получив от Вас для Пушкинского дома. через посредство М. Л. Гофмана, экземпляр "Истории Пугачевского бунта" с посвятительной надписью Пушкина Н. С. Алексееву и автограф стихотворения Ф. Н. Глинки..." (Далее - благодарность и сообщение о вручении памятной медали, как в первом письме) [43].
1. Что в семье Алексеевых хранились пушкинские материалы - письма, книги с посвящениями.Огромные тома "Весь Петербург" - потом "Весь Петроград" и "Весь Ленинград" - содержали адреса и должности всех совершеннолетних жителей города и предместий. Среди более чем 500 петроградских Алексеевых - Николаев Ивановичей Алексеевых дворянского сословия оказалось, на удивление, немного, всего двое: полковник, который живет по адресу Миллионная улица, дом № 4, а также надворный советник, архитектор его императорского высочества великого князя Кирилла Владимировича, проживающий на Васильевском острове.2. Что существовал внук Н. С. Алексеева, Николай Иванович, и что, стало быть, сына Н. С. Алексеева звали Иван Николаевич (позже выяснилось, сколь обманчиво такое умозаключение: Николай Степанович всю жизнь оставался холост, гипотетический Иван Николаевич - такая же абстракция, как поручик Киже, а Николай Иванович Алексеев был в действительности внуком Александра Степановича Алексеева - родного брата "лукавого кишиневского друга").
3. Чин и звание внука неясны: "Его высокородие" - типичное обращение к дворянину, независимо от чина.
4. Зато Софья Ивановна Алексеева - "ее превосходительство" - скорее всего жена генерала (статского либо военного).
5. Разумеется, и Николай Иванович и Софья Ивановна Алексеевы состоят в родстве. Конечно, не случайно то, что они примерно в одно время, через посредство одного человека, известного пушкиниста М. Л. Гофмана, передают в Пушкинский дом материалы, касающиеся Н. С. Алексеева и Пушкина. Проще всего представить, что Софья Ивановна - мать Николая Ивановича...
Зато с Софьей Ивановной Алексеевой мне больше повезло: "Софья Ивановна Алексеева, вдова генерал-майора, Крюков канал, дом 11". Это - "ее превосходительство", и, конечно, именно у нее хранилась книга "История Пугачевского бунта" с посвящением Пушкина ее родственнику. Но в книгах "Весь Ленинград" за 1925 год и позже С. И. Алексеевой нет (может быть, умерла или уехала?) - и вообще, как это ни удивительно, в том году в Ленинграде не было ни одной Софьи Ивановны Алексеевой (Николаев Ивановичей Алексеевых же - всего три: бухгалтер, помощник управляющего таможней и владелец мастерской).
Но стоит ли разыскивать? Ведь М. Л. Гофман, очевидно, бывал в этой семье и, конечно, не упустил бы альбома с автографами или других документов, относящихся к Пушкину... А впрочем, кто знает - может быть, Гофмана не познакомили со всеми бумагами? Это предположение показалось мне весьма вероятным после того, как, просматривая все тот же толстый том деловых документов Пушкинского дома, я обнаружил письмо Петра Петровича Вейнера, редактора-издателя журнала "Старые годы", от 19 сентября 1917 года:
"Прошу <...> принять от меня в дар для Пушкинского дома прилагаемые девять писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву и одно приложенное к ним стихотворение. Письма эти мне достались от потомка Н. С. Алексеева".12 октября -1917 года (за 13 дней до Октябрьской революции) Борис Львович Модзалевский от имени Пушкинского дома благодарил за присылку. Зачеркнув начатое по инерции обращение - "Его превосходительству", он пишет:"Г-ну П. П. Вейнеру: "Получив от Вас в дар для собрания Пушк. дома 8 писем Ф. Ф. Вигеля к Н. С. Алексееву, считаю своим приятным долгом..." и т. д. [44].Два пушкинских знакомца - Вигель и Алексеев - переписываются в пушкинские времена и из пушкинских мест. Письма дружеские, с приветами "Ивану Петровичу" Липранди и другим знакомым кишиневцам, со сплетнями о Воронцове и его окружении; с рассуждениями о записках Вигеля, которые автор потерял и боится, что их найдут и, не дай бог, прочтут...Гофман не миновал бы таких бумаг, если б знал о них, но, видимо, ему не удалось подробно ознакомиться со всеми материалами. Если так, если ценные бумаги из алексеевского архива таинственно странствовали и до и после 1916 года, то, может быть, у родни или друзей родни Н. С. Алексеева и поныне что-либо хранится. Но как же еще искать потомков, к тому же обладающих столь распространенной фамилией - Алексеевы?
Принялся я расспрашивать. Расспрашивал московских и ленинградских пушкинистов, ленинградских и московских старожилов. Много удивительного узнал я про петербургскую старину и про людей, которые, если б застать их еще в живых, рассказали бы...
Наконец, уже в Москве еще paз перелистываю вышедшую в 1922 году "Гавриилиаду" Пушкина. Редактировавший книгу Б. В. Томашевский поместил в ней портрет Н. С. Алексеева и при этом благодарил за предоставление портрета - Е. И. Алексееву.
Е. И. Алексеева согласно дореволюционному "Всему Петербургу" оказалась "Екатериной Ивановной Алексеевой, дочерью генерал-майора", жила же она вместе с матерью, уже известной нам Софьей Ивановной Алексеевой, по адресу Крюков канал, 11. В справочнике за 1925 год я уже не нашел этого имени, однако Р. Е. Теребенина, знавшая о моих поисках, сообщила из Ленинграда, что тот самый портрет Николая Степановича Алексеева, за который Томашевский благодарил его внучку Екатерину Ивановну, находится сейчас в Пушкинском доме. Он был передан туда в 1939 году Натальей Ипполитовной Алексеевой, проживавшей по адресу Васильевский остров, 10-я линия, дом 13, квартира 16.
1939 год - дата уже близкая, по "эту сторону" от революции, но еще по "ту сторону" от войны и блокады.
Как только приезжаю в Ленинград, осторожно узнаю по справочнику, нет ли .телефона на интересующей меня квартире. Телефон дают; звоню... Трубку берет молодая женщина, а я задаю длинный, запутанный вопрос:
- Простите, здесь до войны жила (не могу сообразить, каков женский род от слова "потомок")... здесь жила внучка или правнучка одного пушкинского друга, Алексеева, Наталья Ипполитовна... Я понимаю, прошло 30 лет, война...
На том конце провода вежливо выслушивают мой монолог и сообщают:
- Наталья Ипполитовна Алексеева - это моя бабушка, ей 90 лет, ее муж, Николай Иванович, был внучатым племянником Николая Степановича Алексеева; меня зовут Марина Алексеевна Салмина... Я работаю в Пушкинском доме в отделе древнерусской литературы.
По закону парадокса, по закону счастливого случая столь безнадежные поиски должны либо совсем не удаться, либо привести к цели "в двух шагах...".
На другой день в Пушкинском доме знакомлюсь с Мариной Алексеевной, которая вскоре везет меня к бабущке, Наталье Ипполитовне.
Воспроизвожу мою запись о встрече с Н. И. Алексеевой, сделанную через час после окончания нашей беседы (по мере возможности опускаю собственные вопросы).
Наталье Ипполитовне Алексеевой 91-й год, почти не видит, но говорит образно, энергично, как все старики, хорошо помнит прошлое.
В конце XIX столетия вышла замуж за покойного Николая Ивановича Алексеева (он сдавал пушкинские письма в Пушкинский дом). Пережила три революции, блокаду; лишь в конце войны ее эвакуировали в Воткинск, на родину Чайковского.
Наталья Ипполитовна: Я дочь Ипполита Ильича Чайковского, Петр Ильич - мой дядя. Алексеевы не раз роднились с Чайковскими: еще Александр Степанович Алексеев, родной брат Николая Степановича и дед моего мужа, женился на Екатерине Ассиер, а сестра ее, Александра Ассиер, была матерью Петра Ильича Чайковского. Кроме того, Алексеевы состоят в родстве с Киселевыми и Волконскими. Но вас интересует Пушкин и двоюродный дед моего мужа. Вы, случайно, не были знакомы с Лернером, Гофманом или Модзалевским? Они меня посещали... (Сообщаю, что родился уже после смерти Модзалевского и незадолго до кончины Лернера.)
К сожалению, Николай Степанович умер бездетным. Не понимаю, почему год смерти его неизвестен пушкинистам... У меня хранится свидетельство о смерти: "Николай Степанович Алексеев умер в Москве 26 февраля 1854 года, 64-х лет, от разрыва легких, отпет в Ржевской церкви близ Пречистенских ворот и погребен 1 марта 1854 года на Ваганьковском кладбище..."
(До сей поры, значит, у Алексеева "отнимали" три года жизни, которая кончилась не в 1851-м, а в 1854-м. Вот почему Анненков, работавший в 1850-1854 годах, успел задать ему вопросы и получить ответы!)
- У мужа моего, я помню, были какие-то старинные документы, и в их числе - пушкинские. Это наследство нашего деда Александра Степановича [45]. Дед Александр Степанович, офицер, в 1814-м брал Париж: наверное, брат Николай отдал ему свои бумаги.
Моя belle-mere, Срфья Ивановна Алексеева также не раз при мне говорила о Пушкине и об его близости с Николаем Степановичем. К мужу моему часто собирались друзья - он служил в Павловском полку. ("Миллионная, 4", - вспоминаю я адрес и нечаянно вызываю волнение и удивление Натальи Ипполитовны...)
Офицеры часто брали книги и рукописи, но не имели обыкновения их аккуратно возвращать. Мысль о передаче в Академию наук двух писем Пушкина, кажется, и появилась оттого, что мы опасались, как бы и эти письма случайно не ушли из нашего дома. Если бы лет 50-60 назад меня расспросить, возможно, вспомнилось бы еще, но прежде как-то не так интересовались...
- Не помнит ли Наталья Ипполитовна Петра Петровича Вейнера?
- Да, он был знаком с моим мужем и получил от него несколько писем, кажется, для Лицейского музея. (Вот откуда письма Алексеева к Вигелю!)
- Что же еще оставалось из вещей и бумаг дедушки, Николая Степановича? Была подорожная с эмблемой Константина Павловича и подписью Вигеля (от 1 декабря 1825 года!). Мы сдали ее в Пушкинский музей. Сохранился кубок, из которого, говорят, пили Пушкин и Алексеев.
Мне выносят темно-красный бокал, на каждой грани которого женские фигуры в старинных костюмах.
- По семейному преданию, Пушкина и Алексеева в Кишиневе шутливо именовали Орестом и Пиладом...
Любопытно, действительно ли это предание идет с пушкинских времен или родилось позже, под влиянием чернового стихотворения, вероятно обращенного к Алексееву:
Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом,
И не видался я
Давно с моим Орестом...- Не слыхала ли Наталья Ипполитовна о рукописи "Гавриилиады", "Ноэль", пушкинских исторических заметках, книгах с пушкинскими посвящениями?
- Екатерина Ивановна, сестра моего мужа, скончавшаяся несколько лет назад, владела книгой Пушкина о Пугачеве и пожертвовала ее Пушкинскому дому. Екатерина Ивановна имела портрет, о котором вы знаете. Она умерла в блокаду, как и мой двенадцатилетний внук Дмитрий Алексеев... О "Гавриилиаде" или запрещенных сочинениях Пушкина ничего не помню. В годы революции многое из наших вещей и книг пропало, но я не слыхала даже от моей belle-mere, чтобы в семье было что-либо подобное. Может быть, Николай Степанович раздарил рукописи еще при жизни, или что-нибудь попало к сестре Николая Степановича и Александра Степановича - Варваре Степановне, в замужестве Холоповой...
Нет, об Анненкове и его встречах с Алексеевым никто не говорил...
Тут Наталья Ипполитовна припоминает, что муж ее еще лет 60 назад вспоминал о каких-то записках Николая Степановича, где рассказывалось, как он сопровождал Грибоедова в его первом персидском вояже. (В первый раз слышу о поездке Алексеева в Персию. Мне казалось, что он в 20-х годах не покидал Бессарабии.)
Наш разговор о семье Алексеевых движется по трем столетиям;, начинается от жившего при Екатерине II Степана Алексеева и его супруги, урожденной Сытиной, у которых сын Николай родился в 1789 году, в том же городе, где через 10 лет у Пушкиных родился сын Александр; затем - XIX век: взятие Парижа, Пушкин, персидский поход - это как будто позавчерашний день; вчерашний - это Петр Ильич Чайковский, которого Наталья Ипполитовна, конечно, хорошо помнит. Наконец, революция и блокада - день сегодняшний.
Наталья Ипполитовна хочет помочь моим розыскам и сообщает, что письма Алексеева к Пушкину хранятся в Москве, в Румянцевском музее.
- Спасибо. Они поступили туда в 1903 году от сына Пушкина, а несколько лет назад перевезены в Ленинград, в Пушкинский дом... Но я вас утомил своими расспросами, мучаю разговорами о давно исчезнувших письмах, рукописях и тетрадках.
При слове "тетрадка" Наталья Ипполитовна задумывается и спрашивает, читал ли я тетрадку, заполненную рукою Николая Степановича.
- Какую тетрадку?
- Да ту, которую мы с мужем когда-то читали: ее отдали в Пушкинский дом вместе с письмами в 1916 году.
Я не совсем понимаю, о чем речь, но уже тороплюсь в Пушкинский дом "за тетрадкою".
Наталья Ипполитовна: Прошу вас постоянно извещать меня о ходе ваших поисков, меня они очень интересуют...
V
Прошло сто лет -
и что ж осталось...?От 10-й линии Васильевского острова до Пушкинского дома - всего несколько остановок.
В рукописном отделе прошу "тетрадку Алексеева".
- Что за тетрадка?
- Затрудняюсь объяснить, но должна быть тетрадка, ее пожертвовала в Пушкинский дом семья Алексеевых в 1916 году вместе с двумя письмами Пушкина и книгой "История Пугачевского бунта".
За письма и книгу Алексеевым были посланы благодарности и памятные медали, тетрадку же - как не столь ценное подношение - в благодарственных письмах не отметили... Находят мне тетрадку и приносят [46]. "Официальное" название ее - не тетрадка, а "Сборник".
Сборник довольно велик по формату (215 х 340 мм), но состоит всего из пяти вложенных друг в друга двойных листов (что составляет 10 отдельных листов, или 20 страниц).
Вначале - несколько строк рукою Б. Л. Модзалевского с еще дореволюционной орфографией:
"От Алексеевой С[офьи] И[вановны]. Сборник писан одним почерком. Водяной знак "1818". Рукою Н. С. Алексеева в Кишиневе. 1821-1823 гг.".Вспомнилось примечание П. В. Анненкова, сопровождавшее его копию "Исторических замечаний" Пушкина:"Писано в Кишиневе в 1821-1822 годах. Почерпнуто из сборника Н. С. Алексеева".Открыв сборник, только что мне принесенный, вижу на первом же листе почерком Алексеева - "опрятным и чопорным" - "Некоторые исторические замечания. По смерти Петра движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось...".Очевидно, передо мною лежал именно тот сборник, с которого снимал когда-то копию Федор Васильевич Анненков.
Кажется, за полвека, прошедших с того дня, как сборник поступил в Пушкинский дом, им специально не интересовались. Он "затерялся" в громадных описях главнейшего рукописного фонда № 244 (фонд Александра Сергеевича Пушкина), да и еще спокойно пролежал бы бог знает сколько, если бы случайно в разговоре с Натальей Ипполитовной не прозвучало слово "тетрадка".
Снова вернулись мы к тому, с чего начали.
"Хоть поздно, а вступление есть...". И отношения кишиневских "друзей-соперников", и архив Алексеева, столь же замечательный, сколь недоступный, и труды Анненкова, и беседы с потомками, и появление "тетрадки-сборника" - все это понадобится для проникновения в загадочное и важное сочинение 23-летнего Пушкина, которое даже назвать непросто, потому что оно имеет два названия, но, в сущности, ни одного, в то время как название в этом случае может быть важнее, чем в любом другом. "Сборник" Алексеева будет рассмотрен ниже. А сейчас обратимся к пушкинскому автографу "Заметок...".
Немало пропутешествовав вслед за Николаем Степановичем Алексеевым, мы отправимся сейчас в еще более трудные и сложные странствия - за Александром Сергеевичем Пушкиным.
Снова пушкинский текст будет сопровожден комментариями, совершенно не претендующими на объяснение и освещение всего; даже, наоборот, это комментарии, в которых много важных сюжетов совсем не появится, например, почти не будет представлена тема об источниках, откуда Пушкин черпал свои исторические сведения (подтверждая тем известное изречение мадам де Сталь - "В России все тайна - и ничего не секрет!.." [47]). Цель комментариев - обратить внимание на некоторые не слишком очевидные оттенки пушкинской мысли. Итак, пушкинские заметки. Вместо заглавия над текстом рукою Пушкина - "№ 1" (скорее всего "№ 1" вписано позже, так как Пушкин никогда не начинал писать так высоко, почти у верхнего края страницы) [48]. Справа - "NB" и оставлены большие поля для дополнений. (Обычная его манера, когда предпринимался какой-нибудь большой труд!)
"По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали".В первой же фразе первой исторической работы Пушкина главный герой - Петр I: и так во многих будущих трудах, вплоть до последнего, незавершенного. Начало - медленное, эпическое, предложения длинные в ритме истории Карамзина. Однако здесь - краткое обозрение "новейшей истории", в то время как "История государства Российского" должна была остановиться перед воцарением Романовых."По смерти Петра I"... "Огромные составы...", "прерванные связи..." вызывают в воображении читателя некий громадный организм, "Левиафан": сильный человек мощным движением швырнул и вздернул его так, что захрустели составы и связи и отшибло "воспоминания старины..." Через 10 лет это будет "гордый конь", которого всадник "уздой железной... поднял на дыбы...".
Пушкин не пытается как-то объяснять появление самого Петра: "сильный человек", "северный исполин" (позже - "исполин судьбы") - во всем этом сочинении, в духе времени, сильные люди (или объединения людей) делают историю куда в большей степени, чем история творит их самих... Выражаясь языком современной науки, "субъективное начало" явно преобладает над "объективным".
"Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр".Дальше один за другим обозреваются три главных "состава" государства преобразованного: сначала - народ. Фразу начинает историк, просвещенно иронизирующий ("победа... бороды и кафтаны"), но заканчивает - "сам народ", насмехающийся над "историком" и ему подобными "обритыми боярами" (выражение чисто народное) [49]. Тут уже видно столь раскрывшееся в поздние годы особенное умение Пушкина смотреть на предмет то со своей стороны, то с чужой колокольни, то - на Пугачева, то - Пугачевым; только что принизив "бояр" народным мнением, в следующей фразе уж снова говорит в их пользу - "новое поколение... привыкало к выгодам просвещения"."Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы.Народ с его мнением и "упорным постоянством" больше не появляется - о нем говорится, но он сам "безмолвствует"; нет ни Булавина, ни Пугачева.Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе" [50].
Второму составу - "новому поколению, воспитанному под влиянием европейским", то есть "обществу", - внимание куда большее, потому что Пушкин сам из этого состава. Тут впервые появляется один из главных мотивов работы - "просвещение", "выгоды просвещения".
Пушкин и в этих строках тонко меняет углы наблюдения: то с высоты XIX века на XVIII, то с "низин" XVIII - на самих себя: "чиновники, иностранцы, схоластический педантизм" - слова, произносившиеся в 1820-х годах с оттенком отрицания, здесь, наоборот, звучат одобрительно. Позже Герцен напишет о XVIII веке как о времени, когда "поэты воспевали своих царей; не будучи их рабами", и когда еще "великой революцией была реформа Петра" [51].
После народа и общества третий и последний "состав" - правительство. Кажется, Пушкин не жалеет красок, сближая уровень просвещения царского дворца и деревенской избы: в хижине упорное постоянство "суеверия", во дворце - "суеверная точность подражания", там - "бороды и русский кафтан", тут "азиатское невежество". Но так как исторический толчок уже дан, развитие продолжается, и новые случайности не могут отменить мощного движения, но могут лишь наложиться на него.
"Петр I не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон".Центральная мысль всего сочинения и вообще для Пушкина одна из важнейших: просвещение - здесь не просто доза культуры, принятая обществом; это и экономика, и литература, и знания, и быт - это уровень развития.Развитие, просвещение неминуемо ведет к свободе. Из дальнейшего видно, что Пушкин разумеет под "народной свободой" одновременно свободу политическую и освобождение крестьян. Петр не только вводил просвещение, но на примере Англии, Голландии и других стран мог видеть, что просвещение приводит к существенным переменам в управлении.
Однако это соображение нисколько не смущало Петра: "доверяя своему могуществу и презирая человечество", он был уверен, что не скоро его просвещение обратится против его самовластия. Но Пушкину - как это будет видно далее - кажется, что время, отпущенное потомкам Петра для просвещенного самовластья, кончается; что через 100 лет после Петра настал час свободы, "неминуемого следствия просвещения" [52].
"История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, окованные без разбора, были ранны. пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось" [53].Четырехкратное "все" звенит, как рабские цепи ("всеобщее рабство...", "все состояния, окованные без разбора...", "все дрожало, все безмолвно повиновалось..."). Пушкина не пугает противоречие этих строк с хвалою "северному исполину" в начале сочинения: он улавливает истинные переходы добра во зло и обратно - причудливые и легкие.Такова же пушкинская мысль о несправедливом петровском указе, будто бы разорванном Яковом Долгоруким и полулегендарном письме Петра, предписывавшем сенату не исполнять царских приказаний, если будут посланы из турецкого плена. "Великая честь необыкновенной души самовластного государя", очевидно, в том, что Петр легко мог поступить нехорошо, самовластно, но поступил благородно... Мы не согласимся с Пушкиным, что и дворянин и крепостной "были равны" перед петровскою дубинкою, но самовластие Петра действительно оковывало даже высшие сословия много сильнее, чем абсолютизм Бурбонов, Тюдоров или Габобургов. Пушкину надо подчеркнуть "всеобщее рабство" для дальнейших размышлений о "всеобщем единодушии" врагов рабства.
"Аристокрация после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения Аристокрации с Деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться".Казалось бы, Пушкин внушил читателю, что самовластье давно следовало ограничить. Но нет! Хороша только свобода "как неминуемое следствие просвещения"; если бы вельможи, "верховники", взяли власть, то был бы сорван плод недозрелый. Для той поры, думает Пушкин, путь к будущей свободе пролегал только сквозь самодержавную несвободу. Одна причина - "правительство - главный европеец"; оно стимулирует просвещение - просвещение ведет к свободе... Для объяснения другой, главной причины Пушкин рассуждает, что было бы, "если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились": крепостное право именем дворянства было бы "закоренелым", вошло бы в плоть и кровь.Крепостничество именем государства, сверхвластие царя - даже над дворянами - это совсем неплохо: крепостное право в этом случае можно отменить законом (укоренившуюся частную собственность - невозможно!). Поэтому закон о вольности дворянской без сопутствующего ему закона "о вольности крестьянской" - по Пушкину - вреден, и его "следует стыдиться".
Только что было сказано: "все состояния, окованные без разбора...", теперь же - "желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла"; объединенные рабством, естественно, объединяются желанием свободы. "Общее зло", против которого все соединятся, - это плохое правительство, горстка сановников, - Александр , Аракчеев, Фотий и т. п. Но против всех им не только не устоять, но даже до крови дело не дойдет: нужно "единодушие мирное", но чтобы довести дело до конца, также и "твердое...". Пушкин тогда настаивал, "что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России" [54].
Прав ли Пушкин? Он понимает особое положение русского дворянства, заменяющего "отсутствующее третье сословие"; вместе с Николаем Тургеневым справедливо
Предвидит в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...Он чувствует, знает ту русскую особенность, о которой так много начнут размышлять лет через 20-30: "преимущество отсталости", возможность привлечений значительных общественных сил к делу крестьянского освобождения (как и было близ 1861 года); после реформ эти силы будут непримиримы, но на необходимости освобождения временно сойдутся!..
Пушкина, как видим, пока что не заботит зловещая коллизия: только что "все состояния окованы... все дрожит, все повинуется", и вот от этих людей требуется "твердое, мирное единодушие", которое "может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы". А вдруг застарелое рабство "сработает", помешает? Различие прошедшего - немалые свободы, хартии, парламенты в Англии, Франции и других землях в течение многих веков и слабость подобных институтов в России - все это Пушкина сейчас не занимает, потому что, в духе времени, он верит в большую свободу исторического выбора. Петр I, сильная личность, дал толчок; настало время новым личностям, "соединенным состояниям" придать новое движение российским "составам", "разорвать связи" и т. п.
Пушкин-"государственник". В 1822 году он отвергает, например, такие рассуждения. - Указ о вольности дворянской способствовал освобождению личности, ограждению от всеобщей дубинки хотя бы части населения, дворян. Без такого освобождения не могли бы явиться в дворянстве такие свободные люди, как декабристы, как сам Пушкин.
После 1825 года Пушкин постепенно приближался к только что изложенной системе, много размышляя о нравственных, внутренних переменах в людях и "состояниях", необходимо предшествующих серьезным политическим переменам.
В одном из отрывков, условно называемых "О дворянстве" (30-е годы), Пушкин писал: "Чем кончится дворянство в республиках? [55] Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. a = b" (XII, 206). В 1822-м Пушкин еще полагал, что "b" лучше, чем "a", так как оставляет перспективу, "выход в будущем". В 1830-х годах - хотя и продолжает порицать "гордые замыслы Долгоруких", но уже рассматривает "уничтожение дворянства чинами", "падение постепенное дворянства" в связи с правлением Петра и Анны (XII, 206). В 1822-м почти вся вина возлагалась на Екатерину II.
"Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная яа престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном описке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в Северной Турции".Большая часть пушкинского сочинения - о царствовании Екатерины II. Причина ясна: первое движение дал Петр; этого хватило до 1762 года; второе движение - Екатерина. Правительство перестает плыть по течению, творить добро (и зло) "ненарочно". Екатерина знает, что делает (ниже будет сказано: "имела свои виды...."). Пушкин не видит почти ничего положительного в этом царствовании, употребляя слова "унизила", "'сластолюбие", "гнусное соревнование" - и лишь в конце первого "екатерининского" абзаца возникает "странный Потемкин" и "блестящие победы", о которых тут же оговорено - "бесплодные...". Здесь же, подозревая, что читатель вспомнит иные оценки Екатерины II, Пушкин объясняет, что "ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали".Взгляд Пушкина понятен уж из того, что сказано в начале его сочинения: некоторые свободы, которые Екатерина дарит "непросвещенному дворянству", преждевременны. Это как бы заговор Долгоруких наизнанку: естественное движение от просвещения к свободе, начатое Петром и "ненарочно" продолженное его "ничтожными наследниками", теперь нарушено. "Гнусное соревнование высших состояний" ("званые" самой Екатериной, "избранные", то есть выдвинутые сановниками) хуже, чем равенство в рабстве, так как вредит грядущему "соединению противу общего зла". Любопытно, что близость с М. Ф. Орловым не мешала, а может, и помогала Пушкину подразумевать среди "презренных" двух дядей . Михаила Федоровича - Григория и Алексея Орловых. Так и слышатся будущие строки:
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый..."Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа".Вот как выглядел сначала этот отрывок в черновике Пушкина: "Уничтоженная Польша [униженная], усмиренная Турция". Затем "Турция" вычеркивается: обстоятельства начала 1820-х годов не доказывали, что Турция усмирена и тем более унижена. Султан расправляется с восставшими греками, держит под ярмом много захваченных земель. Вместо Турции появляется Швеция. "Униженная Швеция и уничтоженная Польша - вот права Екатерины на нашу благодарность".Задумавшись над тем, что значит "наша благодарность", Пушкин уточняет: "на благодарность русского народа". Затем еще сильнее:
"Вот истинные права Екатерины на благодарность русского народа".
Слово "истина" появляется и в начале следующего предложения, где возобновляется атака на систему Екатерины: "Но со временем Истина оценит..." - Пушкин тут же пробует другие варианты: "пройдет [время]", "время оценит", "настанет время". В окончательном варианте, как видим, нет "истинных прав на благодарность" (вместо этого - "великие права на благодарность"); вместо "Истина оценит" появилось - "История оценит".
В самом деле - что есть "истина"? Есть история, есть права на благодарность достаточно большие, "великие", но можно ли определить истинные, то есть "конечные", права?
Строки о Польше указывают на то, что Пушкин метит не только в бывшую царицу, но и в ее царствующего внука. В 1822 году Александр представлялся многим современникам восстановителем Польши в ущерб России (об этом еще речь впереди), и "комплимент" бабушке за уничтоженную Польшу звучал совсем не верноподданнически...
"Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной .кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия - и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.Осуждение екатерининского царствования, задержанное на мгновение краткой похвалой, продолжает усиливаться, превращаясь в злой памфлет. Но с каждой строкой все заметнее, что, собственно, дело не в Екатерине: так же как хвала Екатерине "за Польшу" задевала Александра, так и отрицание екатерининской системы было уничижением александровской...Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой доныне в одном из присутственных мест государства, об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч. Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство".
Преемственность "Екатерина - Александр" (исключавшая Павла) считалась общепринятой. Традиции бабки считались сохраненными внуком.
Пушкин же находит в бабушкины времена те посевы, которые сорняком расцветают при внуке. Когда говорится, что "со временем История оценит..." и "тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России", то подразумевается, что оценит "не сейчас", но после будущих перемен, которые уничтожат ныне действующую и от Екатерины идущую систему. Вчитываясь в этот отрывок, найдем: "...влияние ее царствования на нравы..." (нравы не переменились, это нынешние нравы!).
"Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа..." (имения, отсутствие чести и честности - все действительно для 1820х годов, и-лишь началось с Екатерины).
"Таким образом развратная государыня развратила и свое государство..." (здесь столь же продленное, прошедшее время, как и в предыдущей фразе).
Названо всего несколько фамилий, но сколько еще подразумевается (все временщики, их родня, между прочим, из настоящих и будущих знакомых и членов семьи Пушкина - Орловы, Гончаровы, Загряжские). Из тех, кто размещался между "канцлером" и "последним протоколистом", в 1822-м еще многие здравствовали или передали наследство сыновьям.
Не случайно Пушкин в этом месте совсем позабыл спокойный, эпический склад и докрасна раскаляет памфлетную ярость ("ничтожность...", "отвратительное фиглярство...", "проклятие России...", "плутни", "грабежи..."). Язык все злее, афористичнее: "отсутствие чести и честности", "все крало, и все было продажно", "развратная государыня развратила государство". "Любимцы" появляются второй раз, после того, как о них уже с презрением сказано, второй раз в тексте появляется слово "бояре".
Теперь это уже не тайная усмешка униженного крестьянина, а откровенная насмешка унижающего временщика: Орлову или Зубову лестно вспомнить про пощечину, отвешенную древнему потомку князей или бояр, про "хорошо причесанного генерала", который не смеет жаловаться на обезьяну временщика, пачкающую его волосы нечистотами, и про еще более важного генерала и дипломата М. И. Кутузова, несущего кофе развалившемуся в постели "Платоше" Зубову.
Мимоходом снова брошен упрек серьезному оппоненту - на этот раз он назван: "обольщенный Вольтер..." И. Л. Фейнберг, опубликовавший часть сохранившегося пушкинского черновика, отметил и другие крепкие выражения по адресу императрицы: мелькнуло слово "тиранство"; определяя, каковы были сношения с Вольтером, Пушкин выбирал между "мелочным шарлатанством" и "отвратительным фиглярством" (предпочел последнее) [57].
Гнев Пушкина против системы Екатерины - Александра, кажется, достиг апогея, но это еще не все: уже мелькнули слова "под личиной кротости и терпимости...". Следующий большой отрывок целиком посвящен этому "славному" двоедушию.
"Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку - а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского [58] ,в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами - и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность".Каждая фраза - в одном ритме. Екатерина говорила то-то, - а на самом деле было вот что... В этой обвинительной речи "сталкиваемые" факты говорят сами за себя, и Пушкин убирает лишние подробности, раздробляющие мысль (например, фразу из черновика о публикациях Вольтера в России: "Знаю, что "Кандид" и "Белый бык" были напечатаны"). Сильные прилагательные, которые были в черновике, также исчезают в окончательном тексте: вместо "почтенного Новикова" - Новиков, вместо "кровавого Шешковского" - Шешковский: мысль стала жестче, проще, суровее.И. Л. Фейнберг заметил, что у Пушкина в черновике было "около 200000" (сначала - "300000") раздаренных Екатериной крестьян.
Потом он уточнил число (любопытно бы знать, чьими сведениями воспользовался?) и написал более правильно: "около миллиона". Не зря Пушкин пояснил: "государственные крестьяне (т. е. свободные хлебопашцы)". В черновике сначала было - "свободные землепашцы". Свободные хлебопашцы - термин александровского царствования: в 1803 году был издан закон "о вольных хлебопашцах", мыслившийся как первый в серии раскрепощающих мер, но в том же царствовании дело заканчивается обращением свободных хлебопашцев в военных поселян. Разница между александров-ским словом и делом для Пушкина - продолжение начатого "Тартюфом в юбке и короне", Екатериной II. Легко заменить екатерининские "ситуации" соответствующими александровскими: Александр уничтожил пытку, но Аракчеев никогда ее не отменял; Александр поощрял просвещение, но Радищев, сосланный Екатериной, отравился именно в царствование ее внука.
Княжнин (как ошибочно полагает Пушкин, доверяя .распространенному слуху) умер под розгами за смелую драму "Вадим", но ведь и о Пушкине был распущен слух, что его высекли; в Кишиневе примерно в одно время с "Историческими замечаниями" делаются наброски к драме "Вадим"; Радищев выслан, Новиков в крепости: но ведь и Пушкин выслан, и Пушкину грузила крепость...
В этом отрывке снова появляется тема "просвещения": Екатерина любила "просвещение", но расправилась с Новиковым, "распространившим первые лучи его": истинное просвещение атаковано фальшивым, внешним, порабощающим. Здесь для Пушкина пока не существует той важной мысли, что появляется в последние его годы, - о недостатках самих просветителей, о слабости "полупросвещения" XVIII века. Он с оптимизмом глядит на два главных исторических движения: просвещение - от Петра, через просвещенных людей XVIII века - к новым временам, когда вот-вот над отечеством "свободы просвещенной" взойдет "прекрасная заря...".
Мрак под видом света культивируется властью, особенно екатерининской и александровской...
"Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! Ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.Почти в одно время Пушкин защищает духовенство и пишет "Гавриилиаду". Но одно дело - вопросы веры и церкви для себя и узкого просвещенного круга, другое дело - для народа. До сих пор Пушкин показывал, как Екатерина унизила общество, сбивая его с путей истинного, освобождающего просвещения. Теперь - народ, о котором не упоминалось после первых строк о "бороде и русском кафтане"... Без учителей-священников не сократится разрыв образованных и необразованных слоев, который в послепетровской России сделался огромен.В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно и просвещением. Екатерина знала все это и имела свои виды".
Екатерина "угождает духу времени", то есть просвещенному XVIII веку, но Пушкин ничуть тому не радуется, потому что "угождение духу времени" - совсем не одно и то же, что "быть с веком наравне"; не случайно царица идет навстречу не только "времени", но и "неограниченному властолюбию". Сравнивая православие и католичество, Пушкин пользуется примерно той же логикой, что и при рассуждениях о "гордых замыслах Долгоруких": достоинства русского духовенства (как и дворянства) - в его несамостоятельности, в том, что оно "оковано" вместе со всеми состояниями: благодаря этому, думает Пушкин, плохие его свойства - "суеверные преграды просвещению" (подобно "чудовищному феодализму" аристократии) - не смогли развиться, как это случилось "в землях римско-католических". Серьезные размышления о роли православного духовенства Пушкин разовьет и в 1829 году ("Путешествие в Арзрум"), и незадолго до смерти (письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года).
"Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.Снова - в третий и четвертый раз - Пушкин вспоминает о "современных иностранных писателях" и о "фернейском философе": он понимает, что с их авторитетом следует считаться. Это не царедворцы, а высокие умы, и в их логике своя последовательность [59]. Если буквально следовать за мыслью Пушкина о развращающем царствовании Екатерины, то непонятно, откуда же появились в 1800- 1820-х годах новые люди, свободный дух декабризма? Только как оппозиция к безобразиям крепостнического режима? Но безобразия были и прежде, а Пестеля, Муравьевых, Пушкина при "безграмотной Екатерине I" и "кровавом Бироне" не было? Значит, просвещение сделало свое дело... Но когда же оно успело это сделать? Все двоедушие Екатерины не противоречило тем успехам тогдашних дворян, без которых не развились бы их вольнолюбивые дети. "Фарса наших депутатов" была не только "фарсой"; кроме лживых и красивых слов, была и реальность, многое для будущей политики было услышано от дворянских депутатов, собранных в 1767-м для составления нового уложения. Вот что писал о екатерининском времени декабрист Михаил Фонвизин, племянник нелюбимого царицею писателя: "Она [Екатерина II] старалась смягчить почти азиатскую, - суровую внешность русского деспотизма более благовидными европейскими формами. Небывалая в России до нее кротость и умеренность в действиях верховной власти и некоторое уважение к законности ознаменовали царствование Екатерины" [60]. Но ведь Пушкин все это знал и вот что говорит о екатерининском времени в "Послании цензору", сочинении столь же бесцензурном, как "Заметки...", и написанном в том же 1822 году " [61].Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; "Наказ" ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами; но, перечитывая сей лицемерный "Наказ", нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна".
Скажи, читал ли ты "Наказ" Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачая кумиры;
Хемницер Истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала -
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они?
Кто ж в этом виноват? перед тобой зерцало:
Дней Александровых прекрасное начало.Противоречие двух пушкинских сочинений кажется очень большим... [62].
А на самом деле противоречия нет. Есть нарочитая односторонность - и в одном случае и в другом.
В "Послании цензору" сопоставлены "екатерининские свободы" и "дней Александровых прекрасное начало"; последнее родственно первым. Но, произнося "прекрасное начало", поэт подразумевает отнюдь не прекрасное продолжение александровокого правления. И продолжению этому так же легко находится "родственная" параллель в екатерининское время. Но о том - не в стихах, а в "Исторических замечаниях": только явно задуманное сопоставление, "самовластье Екатерины - деспотизм Александра", может объяснить столь черный портрет царицы, выполненный художником, хорошо знавшим и другие краски...
Александр - "тень Екатерины". "Фарса" депутатов (то есть депутаты, собранные Екатериной для обсуждения нового "уложения") напоминала о конституционных обещаниях Александра, о проектах Сперанского и т. п.: Тит, Траян - употребительные имена для прославления Александра, на что Пушкин намекал в своей известной надписи к портрету Дельвига:
Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что. коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил,
Нерон же без него правдиву смерть узрит... "Нерон - это, например, Павел, о котором заключительные строки сочинения. Но "Нероны", "Калигулы" - то есть Павел, Бирон... - не так занимают и пугают Пушкина и Дельвига, как "Титы" и "Траяны" - Екатерина, Александр. Тот тип властителя хотя и появляется и еще появится в "просвещенное время", но для Пушкина главная фигура современности - "властитель лукавый", развращающий свое государство., В литературе 1820-х годов, за редким исключением, почти никто уж не хвалит Тита и Траяна, и с этих завоеванных высот Пушкин смотрит на литераторов 1760-х - 1790-х годов... "Подлость русских писателей для меня непонятна": "подлость - на тогдашнем языке - пресмыкательство, самоуничижение. Пушкин говорит о столь близком, личном, что "забывается", в первый и последний раз прямо введя личность автора в повествование ("подлость русских писателей для меня непонятна"): заметим - в начале работы, пока речь идет о временах далеких, повествование - в 3-м лице, но как только начинаются события, ближе задевающие пушкинские времена, появляются "мы", "нас": "это спасло нас от чудовищного феодализма", "нынче же политическая наша свобода..." "может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы", "предки наши столько гордились...", "беспокойное наше дворянство", "мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства", "фарса наших депутатов..."
И вот незадолго до финала - "подлость русских писателей для меня непонятна".
"Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: "En Russie ie gouver-nement est un despotisme, mitige par la strangulation". (Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою. Примечание Пушкина.)Известно, что Пушкин, может быть не имея под руками книги мадам де Сталь "Десять лет изгнания", вольно изложил ее "славную шутку", между прочим, заменив "l'assasinat du despote" (убийство деспота) более российским "strangulation" - удушение, удавка (Павел I).Присмотревшись к последним, только что процитированным строкам "...Замечаний", можно как будто заметить противоречие:
1) Защитники самовластья несогласны, что в просвещенные времена могут править Калигулы (на которых действует только удавка).Но противоречие мнимое. Пушкин цитирует "защитников самовластья..." несколько иронически: разве посмел бы, например, Карамзин произнести что-нибудь про удавку?2) В то же время эти самые защитники самовластья считают, что "правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою". Кого же удавливать, если Калигулы невозможны?
Это как бы за него говорится: то, что он не посмел сказать, за него скажет юный оппонент ("оспоривая его, я сказал: "Итак, вы рабство предпочитаете свободе". Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником" (XII, 306).
Так и слышится примерно такой диалог [65].
- "Россия имеет 40 миллионов жителей, и самодержавие имеет государя, ревностного к общему благу. Если он, как человек, ошибается, то, без сомнения, с добрым намерением, которое служит нам вероятностию будущего исправления ошибок" (132).
- Но, если монарх - изверг, как Иван Грозный в несравненном описании Карамзина?
- "Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для монархий, что закон должен располагать троном, а один бог - жизнию царей" (45).
- Но, если деспот - Нерон, Калигула, Павел, - который сам себя считает и верой и мнением и народом? Что сделает с ним закон и что велит "мудрость веков"?
- "Снесем его, как бурю, землетрясение, язву - феномены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов. <...> Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народов!" (45).
- То есть. Вы хотите сказать, вслед за госпожой де Сталь, что "Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою?"...
Действительно, Карамзин допускал "заговор" как крайнее средство, не "не допускал" цареубийства... В сущности, подавая "Записку о древней и новой России", он почтительно угрожал Александру заговором против реформ Сперанского. Пушкин "договаривает до конца"...
Поскольку сказано "За основание нашей конституции...", то возле "славной шутки госпожи де Сталь" как бы появляется другое ее изречение, не менее славное и Пушкину не менее известное:
"Государь, - сказал я ему [Александру I], - ваш характер служит вашей империи конституцией, а совесть ваша - ее гарантией".
- "Если б это было так, - ответил он мне, - я был бы не чем иным, как счастливой случайностью" [66].
Сам Александр I "соглашается" с Пушкиным и с теми мнениями, которые исторгнуты у "защитников самовластья". Характер государя - неважная конституция. Парламент, настоящее народное представительство были бы более надежной гарантией, чтоб Калигула вдруг не появился и не затиранствовал... Но парламента нет - "царь-отец" только "рассказывает сказки". Никакого другого основания российской конституции не остается - только угроза удавки. Александр - "кочующий деспот" не делается еще худшим деспотом, потому что помнит об удавке...
В конце текста, разумеется, нет подписи, но есть дата: 2 августа 1822 года, и характерный пушкинский знак, обозначающий концовку.
Остаток последней страницы чист. Но в начале работы стояло - "№ 1". Значит, могли быть "№ 2, 3, 4"?..
В будущем, мы знаем, Пушкин нумеровал свои стихи, соединяя их в определенной последовательности ("II Отцы пустынники и жены непорочны...", "VI "Из Пиндемонти" и т. д.). Что такое "№ 1"?
В "Исторических замечаниях..." Пушкин подробно останавливается только на крупных событиях, которые определяли каждый новый период политического и нравственного состояния России: вся первая половина работы - о Петре I. Время с 1725 по 1762 год лишь продолжение "движения, переданного сильным человеком"; преемники Петра почти не рассматриваются по отдельности, и даже имена Екатерины I, Бирона, Елисаветы вынесены в примечание.
Вторая половина сочинения - об Екатерине II, чье правление уже нечто принципиально новое в политическом и нравственном состоянии России.
Павлу - внимание столь же мимолетное, как Анне, Елисавете. Это не новый период, а возвращение Калигулы в "просвещенные времена". Зато следующий период - "царствование Александра" - Пушкин, конечно, считал новым и значительным историческим этапом. Так и ожидаешь, заканчивая чтение "Замечаний", что вот-вот начнется разбор "дней Александровых прекрасного начала", войны 1812 года, похода в Европу, последующих ожиданий и разочарований.
И. Л. Фейнберг и Б. В. Томашевский стремились определить, какое место мог занимать этот отрывок в "Автобиографических записках", о которых точно известно, что Пушкин вел их на юге и в Михайловском, с 1821 по 1825 год, а "в конце 1825 года при открытии несчастного заговора... принужден был сжечь сии записки", так как "они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв".
Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной, зрелой исторической прозе "Замечаний" начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспозиции к ней [67], соблазнительно, но необязательно... Об этом еще речь впереди, после того, как "будет пройдена" история рукописи и текста.
VI
Быть может (лестная надежда),
Укажет будущий невежда...Говорилось, что жандармских чернил нет ни на одной странице "Исторических замечаний"; Значит, в доме Пушкина этой рукописи не было ни в 1837-м, ни раньше: Пушкин сжег свои наиболее откровенные бумаги в начале 1826 года, когда ожидал обыска или ареста. Если б "Исторические замечания" были привезены с юга и сохранялись в Михайловском, то непременно бы погибли...
Значит, одно из двух: либо эти листы были привезены Пушкиным в Михайловское и кому-либо переданы на хранение (семье Вульфов? Приезжавшим друзьям?); либо летом 1824 года, отправляясь из Одессы, поэт при себе уж не имел рукописи.
Первая гипотеза кажется маловероятной: у "северных приятелей" Пушкин мог позже десятки раз получить свое сочинение обратно, до 14 декабря 1825 года с него непременно сделали бы списки, но, насколько известно, ни одной копии "Исторических замечаний" в декабристской среде не обращалось. Если же примем второй, "южный" вариант, то остаются два года - с августа 1822-го по июль 1824-го, когда эти шесть листов могли быть кому-то отданы.
Анненков, Е. Якушкин, Афанасьев и Ефремов ссылались, как известно, на "Сборник Н. С. Алексеева", из чего впоследствии заключили, что подлинная рукопись хранилась у Алексеева и благодаря этому избежала встречи с жандармским генералом Дубельтом [68].
Но вдруг в "тетрадке" Николая Степановича (о которой напомнила Наталья Ипполитовна Алексеева) обнаруживается копия с рукописи Пушкина, и тогда становится непонятным, зачем же Алексееву было снимать копию, если у него оставался автограф?
Наша статья началась с того, что пушкинская рукопись "Исторических замечаний" поступила в Лицейский музей в 1910 году из собрания Дашкова. Надо понять, откуда же Павел Яковлевич Дашков получил такой текст? В Пушкинском доме хранится не только громадное собрание рукописей П. Я. Дашкова, но и несколько десятков переплетенных тетрадей, в которые Дашков почти 40 лет записывал все свои приобретения, вклеивал счета, деловые письма и т. п. На каждом шагу встречаются примерно такие записи:
"Бумаги Н. И. Греча. 50 руб. В том числе стихи Гнедича, письма Полевого, Велио, Ф. Глинки, Дм. Языкова, Дубельта, Сербиновича, Ростовцева, Липранди, Лонгинова, Перовского, Даля, В. Одоевского, Корфа, Воронцова" [69].Или такие:"Добрейший Павел Яковлевич! Вы можете сделать мне большое одолжение, уступив мне какой-нибудь автограф Пушкина. Мне необходимо теперь услужить им одному господину; со временем я надеюсь достать несколько рукописей Пушкина, но в настоящую минуту мне остается только обратиться к Вашему великодушию и доброму расположению ко мне".Подпись: С. Н. Шубинский (издатель журнала "Древняя и новая Россия", позже - "Исторического вестника"). На письме рукою П. Я. Дашкова отмечен сделанный подарок: "Письмо Пушкина Н. И. Гречу с шуткой насчет гонорара" [70].Уже в третьей тетради ("Разные документы, касающиеся покупки автографов разных лиц, счета, письма с предложениями и т.п. за 1878-1881 годы") удается найти то, что нужно.
Вот какие приобретения поступили к Дашкову 2 апреля 1878 года:
"Пушкин - письмо - 5 (руб.)
Пушкин - второе послание к цензору [71] - 5 (руб.)
Пушкин - Русская история - 7 (руб.)".
Рядом - запись, относящаяся ко всем этим приобретениям: "(бумаги Лобанова) от Константинова" [72].
"Русская история" - это приблизительное название интересующей нас рукописи: просматривая список Пушкинианы Дашкова, не найдем никакого другого текста, к которому еще могло бы относиться такое название. Ту же мысль подкрепляет следующее сопоставление дат: в 1878 году Дашков приобретает рукопись, а в 1880 году в "Русской старине" появляется почти весь ее текст. (Либеральная цензура Лорис-Меликова, вероятно, усмотрела политический намек в строках о "фарсе депутатов" при Екатерине II и не пропустила их в печать. Режимы менялись, но Пушкин еще в 1822 году рассчитал, как им всем не угодить.)
Публикации предшествовало следующее редакционное введение:
"Александр Сергеевич Пушкин. Взгляд на царствование Петра I и Екатерины II. Под этим заглавием, нами данным, печатаем здесь собственноручную рукопись А. С. Пушкина, не имеющую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок его записок. Подлинник принадлежит собранию автографов русских деятелей П. Я. Дашкова и сообщен нам П. А. Ефремовым. Отрывок этот был уже напечатан в "Библиографических записках" в 1859 году, но не вполне и не совсем исправно..." [73].Итак, в 1878 году Дашков приобретает бумаги Лобанова "от Константинова".Художник Андрей Константинов еще появляется в делопроизводственных бумагах Дашкова, напоминая 22 декабря 1881 года, что приходил и прежде "с автографами и гравюрами по поручению г. Лобанова", и прося помочь ему "в бедственном положении" [74].
Дашков, видимо, поддержал посредника, и тот дважды еще просил о вспомоществовании (между прочим сообщив, что не приобретенные прежде бумаги и портреты Лобанова находятся "в Александровском рынке у купца Смирнова") [75].
Константинов - ясен. Теперь - Лобановы. Скончавшийся в 1881 году Леонид Михайлович Лобанов [76], сын академика Михаила Евстафьевича Лобанова, продал Дашкову архив, собранный отцом: все приобретенные бумаги относятся только к концу XVIII и первой, половине XIX столетия [77].
Трудно представить более неподходящую фигуру для хранения крамольных "Исторических замечаний", нежели Михаил Евстафьевич Лобанов. Плохой переводчик, посредственный поэт, печатавшийся там и сям в 1820-1840-х годах, он выпустил в 1835-м драму под названием "Борис Годунов" (через 4 года после появления пушкинской!) и 31 августа того же года удостоился за нее специальной премии от академии (в чем заключался, разумеется, "укол" Пушкину, никакой награды не получившему).
В 1836 году Пушкин выступил против Лобанова в известной статье журнала "Современник" - "Мнение г. Лобанова о нашей словесности, и в особенности русской". Отвечая на речь Лобанова, доказывавшего "безнравие и нелепость всех французских литературных течений" и призывавшего академию принять участие в цензуровании книг, Пушкин заключал статью "искренним желанием, чтобы Российская академия <...> ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных - наказывая одним ей приличным оружием: невниманием" (XII, 74).
Вспоминая главные события жизни и творчества М. Е. Лобанова, прочно забытого к началу XX века, Н. Янчук назвал его "литературным врагом или даже соперником Пушкина" и забавлялся тем обстоятельством, что, по воле случая, два несопоставимых икТени - Пушкин и Лобанов - частенько оказываются в какой-то связи: некий виленский гимназист, узнав о смерти Пушкина, пишет прочувствованную статью с эпиграфом из Лобанова; на выставке 1827 года Кипренский выставляет знаменитый портрет Пушкина, а также портрет Лобанова [78].
И вот, наконец, неожиданное сочетание имени верноподданного Лобанова и свободных пушкинских "Замечаний".
Впрочем, для справедливости следует привести и доводы в пользу Лобанова, которые как-то "сближают" владельца рукописи с самой рукописью. Михаил Евстафьевич был коллекционер, и этим уже многое сказано. (Дашков ведь приобрел только часть его бумаг!) Страсть коллекционирования может затопить и растворить многие другие страсти. (Между прочим, в .небольшом фонде М. Е. Лобанова в Архиве литературы и искусства сохранилась полная подборка вырезок из газет и других печатных изданий о деле 14 декабря и процессе над декабристами [79]. Где-нибудь в таком собрании могли поместиться также "Исторические замечания" Пушкина [80].)
Возможностей для пополнения своей коллекции Лобанов имел немало; между прочим был связан с двумя крупнейшими хранилищами рукописей: много лет служил под началом известного ученого и сановника А. Н. Оленина в императорской Публичной библиотеке, а незадолго до смерти управлял Румянцевским музеем [81]. Был он также близким приятелем И. А. Крылова и Н. И. Гнедича, собрал немало их работ и в 1840-х годах написал о каждом по книжке с похожим названием:
"Жизнь и .сочинения Николая Ивановича Гнедича",
"Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова".
Скончался М. Е. Лобанов в 1846 году, на 70-м году жизни. Н. С. Алексеев пережил Лобанова на 8 лет, что еще раз опровергает предположение, будто рукопись хранилась у кишиневского Друга. Если б мы знали, у кого - между Пушкиным и Лобановым - были "Исторические замечания", мы могли бы утверждать, что у того человека был тайник пушкинских материалов, в котором прятались не одни "Исторические замечания". Если б мы знали, мы бы попробовали пуститься по следу...
История беловой рукописи Пушкина, однако, затерялась в неизвестности; обращаемся к пушкинским черновикам.
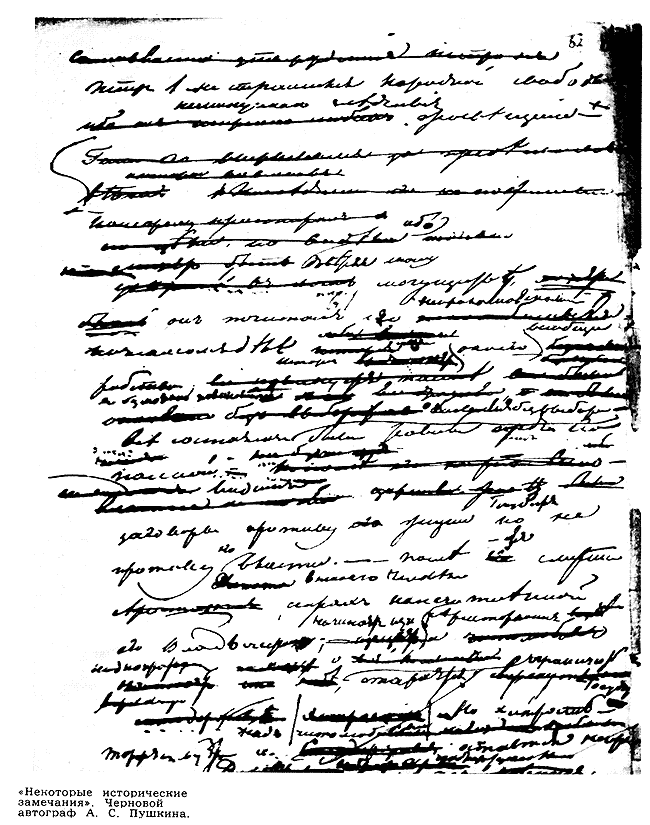
VII
Одна черта руки моей...
В 1880 году, к открытию памятника Пушкину в Москве, старший сын поэта, Александр Александрович, решил пожертвовать хранившиеся у него рукописи отца московскому Румянцевскому музею. Петр Иванович Бартенев отправился в тамбовское имение Пушкиных и вывез оттуда много тетрадей, а также отдельных листов, некогда взятых и возвращенных П. В. Анненковым.
Через четыре года историк литературы, внук декабриста Вячеслав Евгеньевич Якушкин описал пушкинские бумаги, лист за листом, и обнаружил при этом множество пушкинских строк, не вошедших еще ни в одно издание.
Внимательно изучил Якушкин, а позже и другие пушкинисты, 72 голубоватых листа "в четвертку", так называемой первой кишиневской тетради, которая в Румянцевском музее числилась под номером 2365, а после переезда в Пушкинский дом стала называться "фонд 244, опись 1, № 831" [82]. Красные жандармские чернила, обозначающие номер каждой страницы, свидетельствуют, что тетрадь в час кончины Пушкина находилась в его кабинете, попала в "посмертный обыск", и Дубельт был ее первым исследователем. Впрочем, образ грядущего Дубельта, очевидно, входил в число предвидений Пушкина, что доказывают корешки от многих листов, вырванных из тетрадей. Из "первой кишиневской", как думал М. А. Цявловский, Пушкин, вероятно, изъял опасные фрагменты "Гавриилиады" [83].
Тетрадь начинается "Кавказским пленником", затем идут черновики, наброски, отдельные заметки, рисунки, вносившиеся с конца 1820 до начала 1822 года (параллельно Пушкин писал и в других тетрадях).
На 61-м листе появляется строка: "Самовластие, утвержденное Петром". Строка зачеркнута - за нею: "Петр I не страшился народной свободы".
Это начались черновики "Исторических замечаний". Затем они еще несколько раз возникают и исчезают на страницах тетради, перемежаясь с другими сочинениями.
Черновики Пушкина опубликованы [84], но еще недостаточно изучены. Между прочим, в печати никогда, кажется, не обосновывалась последовательность появления черновых "Замечаний" среди других набросков и планов поэта.
С этой целью, от интересующих нас шестидесятых листов тетради отступим назад листов на 15 и будем потихоньку двигаться вперед...
На обороте 45-го листа Пушкин записал по-французски:
"18 июля 1821. Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа..."
Сообщение о том, что Наполеона уже нет, за 3 месяца, с 23 апреля / 5 мая по 18 июля, покрывшее расстояние, от острова Святой Елены до Кишинева, взволновало Пушкина, вызвало размышления о целой исторической эпохе, как бы окончательно отрезанной этим событием.
Анализируя чернила, которыми заполнялась первая кишиневская тетрадь, Т. Г. Цявловская выделила четыре ясно различающихся сорта (условно обозначив их "а", "в", "с" и "d>>); запись о смерти Наполеона сделана чернилами "в" (желтыми или светло-коричневыми) на полях листа, где стихотворение "Гроб юноши"); однако год -1821 (после 18 июля) вписан позднее (чернилами "а").
После записи о "Наполеоне" идут наброски стихов, мыслей, писем (план "Братьев-разбойников", "Песни о "вещем Олеге", портреты Марата, Занда [85], Ипсиланти [86] и Лувеля [87], причем первые два, на листе 46, подписаны. Среди записей на лл. 45-49 мелькают поставленные Пушкиным даты: "26 июля", "23 августа 1821 года". Светлые чернила "в" сменяются черными ("с"); и, кажется, страницы, следующие за 45-м листом, заполнялись последовательно, в хронологическом порядке летом и осенью 1821 года (что для Пушкина отнюдь не обязательно: нисколько не заботясь о грядущих исследователях, поэт часто писал в разных местах своих тетрадей, потом одни замыслы "сталкивались" с другими, перескакивали через исписанные страницы, двигались дальше, а порою тетрадь переворачивалась и заполнялась с конца к началу - до чернильной встречи посредине). В 50-х листах тетради .чернила меняются (те самые более поздние чернила "а", которыми к записи о Наполеоне добавлен "1821 год"). Это идут заметки, относящиеся к концу 1821 и началу 1822 года.
На обороте 53-го листа в первый раз появляются черновые стихи "К Овидию":
Овидий я живу близ тихих берегов...
Стихи эти родились в поездке Пушкина (вместе с И. П. Липранди) в Аккерман и Измаил с 13 по 23 декабря 1821 года. Под перебеленным текстом "К Овидию" Пушкин поставил дату "26 декабря 1821 г.".
Вслед за черновиками "К Овидию", на листе 55 - дата "Генварь", то есть, очевидно, январь 1822 года; тут же, однако, строки послания к В. Ф. Раевскому, считающиеся более ранними (июль - октябрь 1821 года). Среди них:
Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран . . . . . . . льстец
Иль предрассудков раб послушный...Еще после нескольких набросков 1821-1822 годов - 53-й лист, где лицевая сторона чиста, а на обороте план: "Стрелец, влюбленный в боярскую дочь, - отказ, приходит к другу-заговорщику - вступает в заговор".
Как видим, русские исторические темы (Олег, стрельцы...) возникают в то время регулярно. Исторические сюже.ты, вероятно. присутствовали и на следующих семи листах (от которых остались только корешки), потому что на 60-м листе (первом после пропавших) - черновые замечания и план исторической драмы "Вадим".
Наконец, на 61-м листе черновик "Исторических замечаний" начинается со слов "Петр I не страшился народной свободы" (в окончательном тексте этой фразе, как известно, предшествует длинный первый абзац, который, судя по черновику, сначала намечался "на втором месте").
Когда же были занесены на 61-й лист тетради интересующие нас черновые строки? По заключению В. В. Гиппиуса и Б. М. Эйхенбаума, сделанному в 1938 году, черновик "Замечаний" датируется "осенью 1821 года по положению в тетради 2365" [88]. Однако, зная, как причудливо заполнялись пушкинские тетради, попытаемся более точно обосновать дату рождения рукописи. Чернила - те, что уже много страниц не встречались, - светложелтые ("в"), которыми сделана запись о смерти Наполеона. Пушкин мог, конечно, попеременно писать разными чернилами - и так оно было с чернилами "а" и "d", но не с чернилами "с" и "в". Последними Пушкин пользовался в июне - июле 1821 года (но уже 26 июля пошли в ход черные чернила "с").
Разумеется, только по цвету чернил нельзя уверенно объявлять, что первые строки "Исторических замечаний" были созданы в первой половине лета 1821 года (то есть за год с лишним до завершающей даты "2 августа 1822 года"). Черновик "Исторических замечаний" на 61-м листе невелик и обрывается на словах "образ русского правления остается неприкосновенным до несчастного Петра III".
На обороте 61-го листа теми же чернилами "в" (то есть, очевидно, в те же дни) составлена программа поэмы "Братья-разбойники", и тут же много рисунков - головы, какой-то конверт, стол. Рисунки сделаны карандашом, а также чернилами "в" и "с"; желтые чернила "в" сменились черными "с" между 18 и 26 июля 1821 года; но программа "Братьев-разбойников" в этой тетради появляется не один раз. Еще на 46-м листе находится план, явно родственный, близкий, связанный с тем, который упоминался только что. Там, на 46-м листе, план (чернилами "с", то есть после 18-26 июля 1821 года) перебивает черновик стихотворения "Гроб юноши" (июль 1821 года, чернила "в").
В общем, соседство "Исторических замечаний" с программой "Братьев-разбойников", соседство одного из планов "Разбойников" с "Гробом юноши", чернила - все ведет к тому, что летом 1821 года, примерно в одно время с известием о смерти Наполеона, Пушкин уже писал "Некоторые исторические замечания".
Начало сохранившегося черновика показывает, как много работал над ним Пушкин: несколько слоев поправок, мучительное удаление и возвращение к словам, которые наиболее точно определили бы Петра:
"Самовластие, утвержденное Петром", - пишет Пушкин и зачеркивает: эта мысль ему пока не нужна.
"Петр I не страшился народной свободы..." - написав эту строчку, Пушкин продолжает: "Может быть, доверял".
Потом еще раз "может быть", и зачеркивает...
"Он искренно любил просвещение" - зачеркнуто. "Неминуемое следствие просвещения" - зачеркнуто... Просвещение, "которое вовлекало...".
Пушкин шел к важной мысли, но она, видимо, не давалась сразу: "Любовь Петра к просвещению" - уводила от уже осознанной главной линии (деспотизм - просвещение - свобода): дело было не в любви...
О презрении Петра к человечеству Пушкин пишет сначала условно, не желая угадывать истинных побудительных мотивов царя: "Может быть, доверял" (своему могуществу) и оттого презирал..." Затем Пушкин укрепится в своей мысли - и "может быть" исчезнет. Эти две поправки усиливали беспощадную оценку петровского самовластья (никаких скидок на "любовь к просвещению": презрение к человечеству..). Но тут Пушкин удерживает свое перо уже от противоположной страсти.
"После смерти деспота", - записывает он, но зачеркивает и заменяет: "После смерти Великого человека..."
В беловике мы читаем великолепную, точную фразу, лишенную расплывчатости и ненужных подробностей: "Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон".
В пушкинском черновике нет имени Наполеона. Это еще, понятно, не доказывает, будто "Исторические замечания" начались раньше 18 июля 1821 года (известие о смерти Наполеона), но, видно, мысль о сходстве Наполеона с Петром была сначала Пушкину неясна. Однако уже со следующего, 62-го листа первой кишиневской тетради начинается "поэтическая победа" над полководцем-императором.
Сначала - "томясь - [в угрюмом], [в своем], [в унылом] [89] заточенье".
Затем - эпиграф "Ingrata patria..." [90] и стихи:
Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек...Только что в черновике "Исторических замечаний" мы видели - "После смерти Великого человека...". Позже, в беловике, находим "сильный человек", "северный исполин"...
Возникает важнейшая тема - великий человек, то есть великий своими возможностями, передающий движение "огромным составам" и "прерывающий связи"...
Между строками, начинавшими стихотворение "Наполеон", на 62-м листе, врезался еще один черновой отрывок "Исторических замечаний". На этот раз - примечание о победах Потемкина в Турции:
"...воинские наши предприятия... а изнуренная Турция не могла им противиться. Оно избавило бы нас от будущих хлопот. Этот вопрос может далеко завести [91]. А Молдавия и Валахия [сделались бы] русскими губерниями" (см. XI, 289).В черновых строках планы расширения России за счет Турции сформулированы более откровенно, чем в окончательном тексте.Но между двумя черновыми отрывками "Замечаний", расположенными на соседних страницах, мы не видим ни строчки из того немалого текста, который должен помещаться между ними (от заговоров "аристокрации" против самодержавия до строк про Екатерину и Потемкина). Ясно, что отсутствующий отрывок Пушкин начинал на какой-то другой странице, потом исчезнувшей... Но черновой отрывок "Исторических замечаний" (на л. 61) и второй отрывок (на л. 62) разделены не только отсутствующим текстом, но и немалым временем. Второй писан уже не "ранними" чернилами "в" или следующими- "с", но еще более "молодыми" чернилами "а" (теми, что добавлен "1821" к записи о смерти Наполеона). Этими же чернилами "а" (с вторжением еще более поздних поправок чернилами "d") написан и черновик стихотворения "Наполеон".
Поскольку же второй сохранившийся черновик "Замечаний" расположился между первыми набросками "Наполеона", ясно, что с определенного момента работа над "Историческими замечаниями" и "Наполеоном" шла параллельно. "Наполеона" Пушкин задумывает вскоре после поразившего его известия со Святой Елены (18 июля!), черновик создавался в сентябре - ноябре 1821 года. В это же время Пушкин, работая над "Историческими замечаниями", уже разбирает екатерининское правление и, вероятно, вносит в текст сравнение Петра с Наполеоном. Черновые строки "Наполеона" занимают 62, 63, 64, 65-й листы тетради (чернила "а" и "d"); в конце 65-го листа "Наполеон" закончен, а на 66-м - строки из письма Пушкина к арзамасцам ("В лето 5 от Липецкого потопа"), которое датируется, во всяком случае, не позднее 1821 года. На обороте того же, 66-го листа - несколько зачеркнутых строк ранней редакции стихотворения "К Овидию":
Овидий, я брожу по тем же берегам, Которым некогда ты пепел свой оставил... и др. Чернила "а" - те же, что в "Наполеоне" и в других черновиках "К Овидию". Уже говорилось, что стихи об Овидии были написаны в декабре 1821 года, и, когда вслед за ними, на той же оборотной стороне 66-го листа мы находим третий черновой отрывок "Исторических замечаний", очень хочется и его отнести к тому же времени. Первые строки этого черновика: "Униженная Швеция, уничтоженная Польша..." и т.д.
"Черновик 3" "Исторических замечаний", таким образом, продолжает "черновик 2" (с л. 62), где было о "воинских наших предприятиях" и "изнуренной Турции", и как будто все сходится: ведь черновик "2" только что был отнесен к концу лета - осени 1821 года (вместе с "Наполеоном"), его продолжение естественно видеть рядом с "Овидием" - конец 1821 года, а в августе 1822-го уж завершен беловик... Но усложняют, картину черные чернила "с", которыми написан третий черновик: ведь Пушкин писал ими в июле - августе 1821 года, и кажется, всегда раньше, чем чернилами "а"?
Одни чернила - не слишком сильный, но и не слишком слабый аргумент: возможно, пушкинские "Замечания" вовсе и не создавались в той последовательности, в какой они в конце концов разместились. В первом черновике исправлений, как говорят математики, на порядок больше, чем в других отрывках: не исключается, что более "чистые" черновики - это второй вариант, вторая редакция рукописи...
Третий черновик занимает весь оборот 66-го листа. Следовавший лист из тетради вырван, но на нем, без сомнения, находился черновой текст об Екатерине II, потому что на сохранившемся 67-м листе "Исторические замечания" все еще продолжаются (чернила "с") - со слов "Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства..." до слов о Фонвизине, с которым Екатерина побоялась расправиться "из-за немалой его известности". Затем пушкинский черновик "столкнулся" со стихами и рисунками, которые еще прежде появились в конце 60-х листов; писать в этой части тетради было негде, и Пушкин, вероятно, закончил черновик на каких-нибудь других листах, которые позже из тетради исчезли.
Соседние пушкинские тексты (особенно "Наполеон" и "К Овидию"), цвет чернил, какими написаны разные отрывки, содержание сохранившихся черновых фрагментов "Исторических замечаний" - все это подтверждает датировку В. В. Гиппиуса и Б. М. Эйхенбаума и позволяет несколько уточнить ее: начало работы относится к июлю - сентябрю 1821 года; возможно, тогда уже был создан первый черновой вариант.
П. В. Анненков, очевидно, со слов Н. С. Алексеева знал, что "Замечания" Пушкина "писаны в Кишиневе в 1821- 1822 годах". Именно в то время, когда Пушкин начинал свое первое историческое сочинение, он был близок со многими выдающимися декабристами: 9 апреля и 26 мая 1821 года - встречи с Пестелем, с 5 августа - общение и дружба с В. Ф. Раевским, тогда же он рисует Занда, Лувеля, Марата и Ипсиланти. Главными событиями тех месяцев была революция и контрреволюция в Италии, Испании, греческое восстание, смерть Наполеона.
Стихотворение "Наполеон" с "Историческими замечаниями" в ближайшем родстве. "Наполеон" посвящен человеку, подобному Петру, - "великий человек" совершает свой "чудесный жребий", меняет ход исторических судеб. Великий переворот порождает надежды:
Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный -
Свободы яркий день вставал...Однако госпожа де Сталь, услышав, что Наполеон - "дитя революции", возразит: "Да, дитя, но отцеубийца". Пушкин позже скажет: "Мятежной вольности наследник и убийца". В стихотворении "Наполеон" находим важные для нашей темы слова:
Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел."Петр I презирал человечество, может быть более, чем Наполеон". Наполеон - "человечество презрел". Но Пушкина не удовлетворяют одни слова осуждения того, кто "...обновленного народа" "буйность юную смирил". Он угадывает новое движение мировой и русской истории:
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.Такова внутренняя близость стихотворения и исторических заметок, сочиненных в одно время, "на границе с Азией", в кишиневском захолустье двадцатидвухлетним поэтом и мыслителем...
VIII
Уж давно без строк приветных
Залежался твой альбом...Мы пытались извлечь максимум сведений об "Исторических замечаниях", сначала из их белового, окончательного текста, затем - из сохранившихся черновиков. Теперь обратимся к копиям из сборника Николая Степановича Алексеева.
В "Сборнике" Алексеева точно такие же большие листы, как в беловой пушкинской рукописи: тот же размер - 215 x 340 мм, водяной знак Хлюстиных - "1818" и лев с мечом в овале. У Пушкина - три двойных листа, вложенных один в другой, у Алексеева - пять таких листов. Вероятно, и те и другие листы куплены в одной лавке, в одно время: скорее всего друзья, жившие на одной квартире, пользовались одной пачкой бумаги "фабрики господ Хлюстиных" (а поскольку Пушкин на такой бумаге обычно не писал, то, вероятно, просто взял для беловика "Исторических замечаний" несколько листов со стола Николая Степановича). По наблюдениям специалистов, время, когда делаются записи, обычно всего на несколько - редко на 10 лет - позже возраста бумаги: Пушкин на бумаге "1818" написал текст, помеченный "2 августа 1822 года"; Алексеев, очевидно, составлял свой сборник примерно в то же время. В этом еще более убеждает сравнение пушкинского автографа и алексеевской копии.
На первом листе своего сборника, сверху, Алексеев написал заголовок: "Некоторые исторические замечания". Затем, на обеих сторонах 1-го и 2-го листов воспроизведен пушкинский текст (у самого Пушкина ушло 6 таких листов, но он оставлял большие поля да писал почерком легким и свободным; у Алексеева же полей нет, а почерк "опрятный и чопорный..."). Сходство подлинника и копии в общем математически точное: те же абзацы, те же запятые и точки с запятой; Пушкин пишет фамилию "домашнего палача кроткой Екатерины" Шешковского через "и" - Шишковский, Алексеев повторяет то же написание.
Написав "бедность этих людей" (духовенства), Пушкин после слова "бедность" вписал над строкою "и невежество". Алексеев учел.
О католическом духовенстве Пушкин заметил, что оно "составляло особое [92] общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению". Алексеев внес в копию слово "вечно", вписанное Пушкиным позднее.
Слова и выражения, замененные Пушкиным уже в беловике, Алексеев дает в самой поздней, верной редакции [93].
В первом абзаце было: "Ничтожные наследники северного исполина, ослепленные блеском его величия". Пушкин затем заменил слово "ослепленные" на "изумленные".
В 4-м абзаце вместо "самый разврат сей хитрой женщины" Пушкин написал "самое сластолюбие" (и при этом не заметил несогласованности, оставшейся от первого варианта, и не переменил слова "он" (разврат) на "оно" (сластолюбие), которое "возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях" (у Алексеева все согласовано).
В том же абзаце было: "В длинном списке ее любимцев, обреченных ненависти потомства...", Пушкин заменил слово "ненависти" на более точное и уничижительное - "презрению"; поскольку Алексеев учел все эти поправки, ясно, что он снимал свою копию уже после многих исправлений Пушкина.
Мало того, можно доказать, что Алексеев копировал именно этот сохранившийся пушкинский автограф, а не какой-либо другой... Это подтверждается двумя случаями, когда тексты разнятся: Пушкин употребляет выражение - "гнусное соревнование в высших состояниях".
Другое отличие: после слов "Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон" в беловом автографе Пушкина сначала следовало: "История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, основанные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось".
Позже Пушкин, очевидно, нашел, что эти рассуждения отвлекают читателя, разрывая последовательное изложение главных мыслей о российском деспотизме. Тогда он перечеркнул эти строки и написал на полях Note, то есть "примечание". В соответствии с волей Пушкина, только что приведенный отрывок ныне помещают в примечаниях к словам "Петр I... презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон". Однако волнистая линия, которой Пушкин эти строки "разжаловал" из основного текста в примечание, лишь слегка задела последние слова - "Все дрожало, все безмолвно повиновалось".
Алексеев, копируя рукопись, в этом тексте ошибся дважды: не понял пушкинского "Note", заключив, что перечеркнутые строки вообще исключаются из текста, и, кроме того, не отнес пушкинского зачеркивания к словам "Все дрожало...". Поэтому в тетради Алексеева после слов о Петре I и Наполеоне следует сразу: "Все дрожало, все безмолвно повиновалось" [94].
Как видно, оба приведенных примера, особенно второй, подтверждают, что Алексеев снимал копию именно с сохранившегося пушкинского беловика. В Пушкинском доме оба текста можно положить сегодня рядом, точно так же как некогда они лежали на столе в комнатке Алексеева. Как видно, не только полное сходство двух рукописей, но даже и различие их, показывает, как точно и опрятно стремился Алексеев переписать сочиненное его ближайшим другом. Эта точность заставляет нас с особенным интересом обратиться к некоторым другим различиям двух текстов.
Заглавие. У Пушкина - ничего, кроме "№ 1". У Алексеева ясно написано то название, которое тридцать лет спустя заимствует из его сборника П. В. Анненков, а за ним - Е. И. Якушкин и другие пушкинисты: "Некоторые исторические замечания".
Не мог Алексеев вдруг сам придумать такой заголовок. Не в его это было характере, да и Пушкин находился рядом, в той же комнате... И не стал бы Николай Степанович предлагать Анненкову им сочиненное название.
Заглавие, несомненно, пушкинского происхождения. Быть может, рукопись имела отдельное заглавие "на титульном листе", и тогда возможны разные объяснения пушкинского "№ 1":
1. Множественное число, употребляемое в заглавии - "Некоторые... замечания", - требует нескольких, многих замечаний. "№ 1" - первая группа "замечаний", затем должны идти "№ 2" и т.д. Однако заметим, что Алексеев, воспроизводя пушкинскую рукопись, не списал "№ 1" (когда он копировал, цифры, наверное, еще не было).Позже будут предложены и другие объяснения...2. У Пушкина мог быть листок со списком разных заглавий. Под № 1 стояло: "Некоторые исторические замечания", Алексеев же просто расшифровал пушкинскую нумерацию.
Так или иначе, но название "Некоторые исторические замечания" - самое достоверное и должно заменить принятое в изданиях редакторское - "Заметки по русской истории XVIII века".
Заметим, что утверждение весьма обыкновенного, безликого названия заставляет задуматься о его происхождении: естественно было бы видеть такой заголовок у введения или одной из глав в книге, уже имеющей более выразительное имя.
Возможно, тут была какая-то нам пока непонятная связь с другими пушкинскими замыслами: раздел под таким заголовком мог быть уместен именно в начале какого-то большого сочинения, в основном посвященного "сегодняшним обстоятельствам" (для объяснения которых требуются, однако, "некоторые исторические замечания").
Различия двух рукописей не ограничиваются одним заголовком.
Пушкин продолжал работать над текстом в том направлении, которое ясно определилось уже в черновике. Он совсем изымает из текста или переносит в примечания все, что вредит краткости, ясности, стройности изложения; что угрожает рассыпать важную мысль в подробностях.
Некоторые примечания попали в копию, снятую Алексеевым, другие были внесены Пушкиным позже (может быть, по совету Николая Степановича?) [95].
Примечание 1 о безграмотной Екатерине, кровавом Бироне и сладострастной Елисавете появилось рано, и Алексеев его воспроизвел.
О Примечании, помеченном у Пушкина не цифрой, а надписью на полях "Note", уже говорилось.
Цифрой "2" Пушкин сопровождает слова о "блестящих, хоть и бесплодных победах в северной Турции". Этого примечания у Алексеева нет. Значит, оно написано уже после того, как Алексеев снял копию (возможно, в ответ на недоуменный вопрос - почему блестящие екатерининские победы названы "бесплодными"?). Впрочем, это примечание намечено уже в черновике, и, может быть, Пушкин просто внес его в текст позже?
Не исключено, конечно, что Алексеев почему-то не пожелал или забыл внести это примечание в свою копию. Однако точность и аккуратность Алексеева, кажется, опровергают такую возможность; никогда бы не опустил Николай Степанович и колоритное примечание, помеченное Пушкиным как "3-е" (по существу - 4-е) "о славной расписке Потемкина, хранимой доныне в одном из присутственных мест государства". Возможно, это примечание явилось в ответ на вопрос читателей (Алексеева?) - "Что за расписка?".
Отсутствует у Алексеева и 4-е (по счету Пушкина) примечание о том, кто такой Шешковский (хотя и оно появляется уже в черновике).
Может быть, Алексеев не стал копировать это примечание, потому что знал, кто такой "Шишковский", или Пушкин колебался, вносить или не вносить его в свое сочинение?
Русский перевод "славной шутки госпожи де Сталь" (у Пушкина - примечание № 5) Алексеев вводит прямо в текст (после окончания французской фразы у него следует: "то есть правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою").
Наконец, в тексте отсутствует дата, которой Пушкин завершил свою рукопись. Вероятно, дата появилась после того, как была внесена последняя поправка.
Очевидно, Алексеев вносил в свою тетрадь пушкинский текст летом 1822 года, совсем незадолго до 2 августа.
Копия Алексеева как бы фиксирует определенный момент в причудливой жизни пушкинской рукописи: только что она была еще совсем не такой (черновики, исправления, дополнения...), вот она, ненадолго такова, какой ее читает и переписывает Алексеев, - это уж беловая рукопись: но Пушкин продолжает над нею работать и после того, как Алексеев закончил переписку. В частности, вносит в текст некоторые примечания, которые прежде либо совсем отсутствовали, либо возникали уже в черновике, но вызывали сомнение - нужны ли?
Итак, первые два листа алексеевского сборника - современники пушкинских "Замечаний", их кишиневские "соседи".
Продолжая чтение той же рукописи, мы по-прежнему - в пушкинском Кишиневе и можем вслед за поэтом воскликнуть:
"Опять рейнвейн, опять champan, и Пущин, и Варфоломей, и все..."
IX
В сгущенной мгле предрассуждений...
Закончив переписку пушкинской рукописи, Алексеев тут же, на обороте 2-го листа, начал копировать "Мнение о науке Естественного права. Г-на Магницкого". Однако от этой копии осталось всего несколько строк, потому что на 3-м из сохранившихся листов тетради уже находится копия совсем других документов. Поскольку Алексеев пользовался большими двойными листами (несшитыми, но вложенными друг в друга), то отсутствие, по крайней мере, одного (а может быть, и не одного) листа между сохранившимися 2-м и 3-м листами от начала означает, что в сборнике не хватает, по крайней мере, одного (а может быть, и не одного) листа, между 2-м и 3-м листами от конца (то есть между нынешними 8-м и 9-м). На неведомо когда и куда девавшемся листе продолжалось "Мнение г-на Магницкого...", документ хорошо известный, хотя во времена Пушкина еще не публиковавшийся [96].
Важный чиновник министерства духовных дел, а затем попечитель Казанского университета Леонтий Магницкий был таким мракобесом и доносчиком, что вызывал удивление даже у сотоварищей по ремеслу и убеждениям.
Отчего же "Мнение Магницкого" внесено в секретную тетрадь Алексеева прямо вслед за "Историческими замечаниями" Пушкина и даже начинается на той странице, где пушкинский текст кончается?
В рассуждениях Магницкого, которые Пушкин, разумеется, читал и, вероятно, обсуждал с Алексеевым и другими, говорилось о тех же предметах, что и в пушкинских "Замечаниях".
Наука естественного права, проникшая в русские университеты с начала XIX столетия, видела в истории, как в жизни и природе, естественный процесс, а не божественное откровение, освящающее верховную власть. Теории естественного развития мира, государства, права принимают и Пушкин, и его друзья - все, кто в просвещеньи "с веком наравне" [97]. Магницкий о том хорошо знал и в своей записке, представленной другим могущественным мракобесом, Руничем, обрушился на науку, "которая сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле".
"Я трепещу, - восклицал Магницкий, - перед всяким систематическим неверием философии, сколько по непобедимому внутреннему к нему отвращению, столько и особенно потому, что в истории XVII и XVIII столетий ясно и кровавыми литерами читаю, что с начала поколебалась и исчезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ мыслей только переменою значения и подменою слов, и от сего неприметного, и как бы литературного подкопа, алтарь Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны, кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника божия и вскоре повергает ее на плаху. Вот ход того, что называли тогда только философия и литература и что называется уже ныне либерализм!" [98]Этот "черный манифест" должен был особенно заинтересовать Пушкина, потому что Магницкий не ограничивался абстрактными заявлениями, но требовал "рассмотрения и осуждения разрушительной системы профессора Куницына и самого лица его" [99]. Любимый лицейский профессор - "кто создал нас, кто воспитал наш пламень" - был как раз автором книги "Право естественное". ("Поставлен им краеугольный камень...") После атаки Магницкого Главное управление училищ 5 марта 1821 года запретило преподавание по этой книге, а самого Куницына удалило от службы по министерству народного просвещения [100]. Это была расправа, похожая на ту, которую за год до того учинили над Пушкиным.И Пушкин отозвался в 1822 году в "Послании цензору", разошедшемуся в списках:
А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.Интересно было бы узнатв, от кого заимствовал Алексеев текст "Мнения" Леонтия Магницкого? Не от Пушкина ли, которого этот документ и его последствия особенно интересовали и который в Кишиневе мог раньше других, по своим петербургским связям, получать известия о новом наступлении властей, о судьбе Куницына.
Не на записках ли Алексеева основывался П. В. Анненков, когда писал:
"Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился - «Право естественное», - подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета министерства народного просвещения, в октябре 1820 года, согласившегося с мнением о ней Магницкого и Рунича. Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической обскурантной партии, об исключении четырех профессоров из стен Петербургского университета и проч. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшем, так сказать, зародыш греческой революции в своих стенах, и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии, открыли двухгодичный период настоящего «Sturm und Drang» в жизни Пушкина" [101].Во всяком случае, второе место, которое "Мнение" Магницкого занимает в "Сборнике" Алексеева, весьма знаменательно. Может быть, на пропавших листах вслед за первым "Мнением" Магницкого помещалось и второе, выраженное в письме министру духовных дел от 9 мая 1823 года, где Магницкий торжествовал, что его мысли находят подтверждение в новых европейских революциях и что "прошло уже то время, когда рассматривали мы учения сии как вредные только теории вольнодумствующих профессоров" [102].На 3-м листе алексеевского сборника возникает целый новый пласт кишиневских мыслей, идей, бесед - Восточный вопрос, занимавший в ту пору Пушкина и его друзей ничуть не меньше московских и петербургских событий. Желание воевать с Турцией, национально-патриотические мотивы были особенно сильны на границе, у края балканских восстаний 1820-х годов (с весны и лета 1821 года восстания в Греции и Дунайских княжествах).
Известно, сколь щекотливым оказалось положение правительства Александра I в связи с греческим восстанием: грекам не помочь - значит утратить выгодные позиции на Балканах; помочь - то есть поддержать подданных, восставших против своего монарха, турецкого султана, - значит нарушить провозглашенный Священным союзом принцип легитимизма. В российском обществе мысль о поддержке греков была сильна. У Пушкина и будущих декабристов русский патриотизм в ту пору хотя и сливался с освободительными идеями, но часто готов был и противопоставить русское дело турецкому, польскому, шведскому.
Те же мотивы, которые побуждали Пушкина в "Исторических замечаниях" приветствовать "унижение Швеции", "уничтожение Польши" и сетовать, что граница России и Турции еще не проходит по Дунаю, мы находим в его стихотворениях "Война", "Чугун кагульский, ты священ...". Но получалось так, что даже обычный патриотизм, с немалым великодержавным оттенком, был едва ли не преступлением, так как "властятель слабый и лукавый" до самой смерти был с греками двоедушен и движение их, поддерживая, не поддерживал, "к противочувствиям привычен".
Среди разных документов о Востоке, питавших мысли и настроения кишиневских вольнодумцев, не последнее место должны были занять письма Александра I (разумеется, неопубликованные) к адмиралу П. В. Чичагову, написанные (на французском языке) одно - 2 мая, а другое 7 июня 1812 года.
Первое письмо занимает в сборнике Н. С. Алексеева весь 3-й и половину 4-го листа, второе - с оборота 4-го до середины 6-го листа [103].
Письма доказывали, что незадолго до войны с Налолеоном царь совсем иначе смотрел на восточные дела, нежели в 1822 году, - ни о каком "легитимизме" не думал, а сколачивал на Балканах прорусский блок. Вовсе не беспокоясь, что усиление русского влияния на Востоке ослабит "законного турецкого монарха", он требовал "вооружения жителей в этих странах, которые бы могли поддержать наши военные действия" [104].
В письмах упоминались лица, продолжавшие службу на юге и во времена Пушкина (в частности, И. В. Сабанеев). Послания Чичагову позволяли противопоставить царя "довоенного" царю 1820-х годов (все то же - "Россия присмирела снова..." и "дней Александровых прекрасное начало...").
Следующие листы в сборнике Алексеева (оборот 6-го и почти весь 7-й) еще более "горячи", хотя там помещен всего лишь официальный и отнюдь не секретный документ - "Декларация дворов российского, австрийского и прусского", подписанная в Лайбахе 30 апреля (12 мая) 1821 г. [105].
Над страницами этими (так же как и над предыдущими - о Греции, Востоке) витали настроения и чувства, позже сохраненные в Х главе "Евгения Онегина".
а затем:
Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал...,
Я всех уйму с моим народом,
Наш царь в конгрессе говорил...Революции в Неаполе, Пьемонте и Испании вызывали серьезные размышления на разных общественных полюсах. В свою записную книжку Пушкин тогда занес строки, которые в переводе с французского звучат так: "О... [106] говорил в 1820 году: «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы поступили глупо, свергнув с престола Наполеона»" (XII, 304 и 486 - перевод).
"Господа государи" вынуждены были сформулировать свою теорию происходящего [107]. В "Декларации" так и было сказано:
"Государи союзники, при заключении переговоров в Лайбахе, решились объявить свету о правилах, коими они руководствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. Для сего их императорские и королевские величества повелели своим полномоченным подписать и обнародовать сию декларацию".Лайбахское объяснение мятежей, заявление, будто мятежники, заговорщики не выражают народных стремлений, - все это вызывало у Пушкина, и, разумеется, не у одного Пушкина, желание отвечать, представить свой взгляд на события."Некоторые исторические замечания" в такой же степени вызваны европейскими событиями и Лайбахской декларацией, как стихотворение "Наполеон", как портреты Марата, Занда, Лувеля, Ипсиланти в черновиках, как только что цитированные строки из записной книжки и многие другие вольные пушкинские мысли...
27 мая 1822 года (за 2 месяца до завершения "Исторических замечаний") за обедом у Инзова мы слышим следующие рассуждения Пушкина:
"Пушкин <...> рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гишпанский - тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы" [108].20 июля (за две недели до окончания "Замечаний") раздаются еще более радикальные речи, хотя и во гневе сказанные:"Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя в просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники - подлецы и воры, генералы - скоты большею частию, один класс земледельцев - почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли" [109].Черновик "Исторических замечаний" тем временем перерастает в беловик, 2 августа работа закончена, в ней сказано, что "народная свобода - неминумое следствие просвещения", и предсказано, что Россия может скоро оказаться "наряду с просвещенными народами Европы".Но в дни ожиданий и веры Пушкин не мог не заметить справедливых во многом строк Лайбахской декларации о легких победах Священного союза над неаполитанскими инсургентами:
"Войска государей союзных, коих назначением единственным было усмирение бунтующих, а не приобретение или охранение каких-либо особенных выгод, пришли на помощь народу, порабощенному мятежниками. Он в сих воинах увидел защитников свободы его, а не врагов его независимости..." [110].Позже, в стихах "Недвижный страж дремал...", прозвучит та же мысль, вложенная в уста Александра I:
Давно ль - и где же вы, зиждители Свободы?
Ну что ж? Витийствуйте, ищите прав Природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу -
Вот кесарь - где же Брут? О грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.Лайбахская декларация, слова, раздавшиеся сверху, были сильным аргументом одной из сторон.
Пушкин пишет: "Твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы". "Может скоро...", но не обязательно "поставит скоро".
В годы своих самых непримиримых настроений, 1821-м, 1822-м, Пушкин не забывает, что степень зрелости, степень просвещения еще не измерены... Отсюда начинается его путь к иным мыслям и иным песням, когда он ответит наконец самому себе на вопрос - "может скоро..." или "может не скоро...".
Все о том же - доросла или не доросла Россия - и следующий документ, на обороте 7-го и на 8-м листе алексеевского сборника.
"Речь, говоренная императором Александром I в Варшаве при открытии сейма в 1818 году". Она была опубликована в русской печати.
Основной мыслью царя было утверждение, что Польша уже давно созрела для конституционных учреждений (которые и сам царь считает полезными, которые - "непрестанный предмет его помышлений"), Россия же до конституции еще не дозрела. Царь призывал поляков "явить на опыте" благотворность "законносвободных учреждений". "Вы мне подали средство, - говорил он, - явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важнейшего дела достигнут надлежащей зрелости".
Кажется, в русском образованном обществе никто не остался равнодушен к речи Александра, хотя чувства возникали самые противоположные" [111]. Н. М. Карамзин находил, что "Варшавские новости сильно действуют на умы молодые", которые "спят и видят конституцию", и что в России многие поняли речь царя как приближающееся освобождение крестьян (так как при крепостничестве невозможен созыв действительно народных представителей).
Самые разные читатели - от консерваторов до завтрашних декабристов - нашли в речи Александра немало оскорбительного для русского самолюбия (Польша - "дозрела", Россия - нет!).
Большую тревогу дворянства вызвало предположение о том, что восстановление Польши будет означать возвращение ей территорий в границах 1772 года" [112]
Как известно, Карамзин в 1819 году вручил Александру I протест против чрезмерных "авансов" как Польше, так и русскому либерализму. Зато "у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи" резко витийствовали об Аракчееве, военных поселениях, Магницком и обещания Александра будущей России воспринимались иронически.
Пушкинский "Ноэль" был одним из насмешливых откликов на речь "царя-отца", который "рассказывает сказки". Е. И. Якушкин - очевидно, вслед за П. В. Анненковым - видел "Ноэль" в "Сборнике" Алексеева (может быть, на одном из пропавших листов?).
Речь царя и споры вокруг нее - конечно, все это было важным петербургским воспоминанием Пушкина. Еще в столице и позже, в Кишиневе, он многократно отвечал себе и другим, в стихах и прозе, на царские слова о пользе конституции для просвещенных народов. Отзвуки хорошо слышны в "Исторических замечаниях": Пушкин пишет о "политической нашей свободе", которая "неразлучна с освобождением крестьян", но ведь об этом-то говорили, прочитав Варшавскую речь Александра, - этим был недоволен Карамзин. Кажутся вынесенными с одной из сходок "Зеленой лампы" слова о том, что "желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы". Это последовательный логический вывод из царской речи: если Россия еще не догнала просвещенные народы (Польшу и других), то это потому, что у "просвещенных народов" (в частности, -и у Польши) крепостного рабства уже нет, а в России есть. Значит, надо всем объединиться, не только мирно, но твердо.
Александр I расплывчато изъяснялся о времени, когда "дозреет" Россия. Долго ли дозревать? Пушкин отвечает, и не раз: если отменить рабство, то "скоро".
После 8-го листа в "Сборнике" Алексеева, как говорилось, отсутствует по меньшей мере один лист. Затем на последних страницах (листы 9-10) - очень интересный документ на французском языке, озаглавленный "Du successeur d'Alexandre" - "О преемнике Александра". Первая же фраза "Alexandre n'est plus" (Александра больше нет) показывает, что текст мог быть внесен Алексеевым в тетрадку не раньше чем через полтора года после расставания с Пушкиным. Подробный разбор этого сочинения явится предметом отдельного исследования. Это, несомненно, противоправительственная, продекабристская работа возможно, впрочем, написанная каким-то иностранцем).
Здесь же отметим только одно обстоятельство: в сборнике, кроме пушкинских "Исторических замечаний" и статьи "Du successeur...", все прочие документы исходят из вражеского стана (Магницкий, Александр I, деятели Священного союза); однако открывают и завершают тетрадь сочинения противоправительственные.
Перелистывая алексеевский "сборник", мы будто слышим звуки давно умолкнувших речей, раздававшихся в маленькой "глиняной избушке", или на обедах Инзова, или между картами у Липранди, в философских и литературных-спорах у Орлова, среди стихов - у Владимира Раевского; в разговоре с Пестелем "метафизическом, политическом, нравственном...".
Исключая последний документ, все шесть предыдущих датируются временем от 1812-го до 1822-го, поскольку же "Исторические замечания" 1822-го стоят на первом месте, значит, все прочие тексты были списаны Алексеевым тогда же или немного позже (разумеется, после 1825 года Лайбахская декларация, речь и письма Александра потеряли интерес). Весь "Сборник", таким образом, посвящен истории царствования Александра I, и - случайно или нет? - пушкинские "Замечания" составляют к остальным документам род исторического введения, пролога, а заключительная статья - эпилог, где о царствовании и политической системе Александра говорится уже в прошедшем времени. Кроме речи Александра I и декларации Священного союза, ни один из документов не мог быть взят Алексеевым из печати.
О происхождении сборника можно только гадать, к чему и приступим.
Одна версия: когда Пушкин поселился вместе с Алексеевым, "друг-соперник" решил пополнить свое политическое образование и переписал у Пушкина "Исторические замечания", затем у Пушкина же или других приятелей заимствовал следующие пять документов. Не исключено, что письма и речь Александра, "Мнение" Магницкого и Лайбахская декларация были в бумагах Пушкина, потому что "Исторические замечания" во многом "отталкиваются" от текстов, следующих за ними.
Другая версия: Пушкин составил себе нечто вроде "исторического сборника" подготовительных материалов для исторической работы о России либо с 1801, либо с 1812-1815 годов. Возможно, Пушкин считал уже одно собрание таких документов достаточно значительным. К этим же подготовительным материалам для "современной летописи" могут быть отнесены и некоторые другие документы, сохранившиеся в бумагах поэта: "Заметка о революции Ипсиланти" и "Заметка о Пенда-Деке", которые Анненков охарактеризовал, как "журнал" "греческого восстания" [113]. Таково же большое письмо (возможно, к В. Давыдову: см. XIII, 22-24).
"№ 1" на рукописи "Исторических замечаний" обозначал, что с этого вступления должно начинаться собрание документов или будущая историческая работа, Алексеев все эти планы хорошо знал и, решив скопировать пушкинские исторические бумаги, начал с "№ 1", а затем, в порядке, указанном Пушкиным, или произвольно, расположил остальные материалы, так что получился сборник документов о последнем десятилетии александровского царствования. Хотя многих важных текстов тут не было, но те, что были, так или иначе касались самых главных и - волнующих проблем.
Как легко заметить, последняя версия держится на трех доводах:
1. № 1 -на рукописи Пушкина и первое место, которое это сочинение занимает в тетради Алексеева.Если Алексеев живет с Пушкиным в одной комнате, если в этой комнате Пушкин пишет "Замечания", а Алексеев их копирует, если в этой же комнате с большой вероятностью хранятся документы, собранные Пушкиным для его работы, документы, из которых он отчасти исходит, - право же, можно предположить, что Алексеев скопирует эти бумаги не у дальнего, но у самого ближнего!2. Пушкинские "Замечания" кончаются смертью Павла I, а последующие документы посвящены истории Александра.
3. Главные мысли вступительных "Исторических замечаний" о соотношении просвещения и свободы, о деспотических правительствах и просыпающихся народах хорошо иллюстрируются для более позднего времени документами "№ 2-6" из алексеевского сборника.
Какую именно работу замыслил Пушкин и в каком соотношении находилась она с его автобиографическими записками, сказать нелегко. Ю. Г. Оксман видит в пушкинских "Заметках" памфлет, предназначавшийся для нелегального распространения [114].
И. Л. Фейнберг полагает, что Е. И. Якушкин правильно оценил характер пушкинской рукописи, когда в 1859 году представил в "Библиографических записках" отрывки из "Исторических замечаний" как выдержки из записок Пушкина [115].
Однако Якушкин высказал больше, чем простую догадку: он пользовался сведениями Анненкова, полученными от Н. С. Алексеева.
Можно допустить, что Якушкин называл пушкинскую рукопись "частью записок" для того, чтобы провести цензуру, но этому мешает утверждение другого пушкиниста, П. А. Ефремова (ближайшего друга Якушкина, также черпавшего сведения от П. В. Анненкова). Ведь в 1880 году при публикации белового автографа в "Русской старине" таких предосторожностей, как в 1859 году, не требовалось, но редакция журнала, явно со слов Ефремова, сообщала о публикации "отрывка из записок" Пушкина [116].
Предложенная гипотеза не слишком уяснила проблему, что такое пушкинские "Замечания": она отнюдь не настаивает (хотя и не исключает совсем), что это именно вступление к автобиографическим запискам Пушкина, как то представляется И. Л. Фейнбергу. Еще Б. В. Томашевский предположил, что "Записки", уничтоженные Пушкиным, представляли собою не просто автобиографию, но и "Историю того времени" [117] "«Замечания» Пушкина - это скорее всего вступление, «быстрое введение» в историко-биографический труд Пушкина" [118] Однако не исключается, что, независимо от "Записок", замышлялась большая работа "О новой России", с вступлением "О России древней". Через 9 лет в письме к Бенкендорфу (около 21 июля 1831 года) Пушкин сообщал о своем "давнишнем желании" "написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III" (XIV, 256). Не отзвук ли это былых замыслов, не желание ли расширить прежнее "вступление" до большого исторического труда?
Х
Зависеть от властей, зависеть от народа...
Работая над "Историческими замечаниями", Пушкин, без сомнения, хотел создать документ, понятный многим людям.
Так отчего же он не пустил по рукам списки, как часто делал? Ведь примерно в те же месяцы 1822-го Пушкин писал "цензору":
Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы
Осмеивать Закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему -
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали:
Что нужды? их и так иные прочитали.Отчего ни в одном декабристском или "около-декабристском" архиве (Алексеев - не в счет!) не встречалось хотя бы отрывка, строчки, следа первой пушкинской исторической прозы? А ведь она произвела бы сильное впечатление на многих людей 14 декабря. Но, кроме Алексеева (и, может быть, М. Е. Лобанова?), мы не знаем других читателей этого текста при жизни Пушкина. Лишь несколько седовласых декабристов, переживших ссылку, смогли прочесть в конце 1850-х годов молодые пушкинские строки. Попробуем понять.
Пушкин не стал бы пускать в списках произведение незаконченное. По всем признакам он предполагал - в какой-то форме - включить в свое повествование более близкие, "александровские времена...".
Такое объяснение, конечно, неполно. Надо еще понять, отчего Пушкин не заканчивал работу и, возможно, рано избавился от уже написанных страниц. Тот же, кто не согласится, будто "Исторические замечания" были частью какого-то задуманного труда, встретит еще больше препятствий, объясняя, почему эта работа почти никому не была известна.
Чем бы ни было это сочинение, частью или целым, на его судьбе, очевидно, отразились те изменения, которые стали заметны во взглядах Пушкина через несколько месяцев после 2 августа 1822 года, - даты, сопровождающей беловую рукопись. Явление это слишком сложно и в этой статье неизбежно будет обрисовано в самых общих чертах.
"Исторические замечания" по духу оптимистичны. Пусть общая панорама мрачна - петровское просвещение, не только не ослабляющее, но даже укрепляющее рабство, развращенное государство Екатерины, Калигула - Павел... - и все-таки Пушкин верит, что просвещение несет близкую свободу, что в России благодаря отсутствию "чудовищного феодализма" нету "закоренелого рабства", что "твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами...".
Но политический оптимизм Пушкина уже тогда подвергается испытанию.
Торжествующая Лайбахская декларация, сравнительно легкие победы монархов над народами, народы, легко отступившиеся от мятежников, крестьяне, выдающие властям Риэго, - все это склоняет к пессимистическим выводам: ведь Испания и Италия считались не менее "просвещенными", чем Россия, и если там народ не созрел для свободы, то дело плохо... Правда, есть Занды, Лувели, есть кинжалы, но в конце концов торжествуют Меттернихи, Бурбоны, Магницкие. Конечно, сохраняет силу мысль, записанная Долгоруковым: "Нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх, монархи или народы?"; но когда народы возьмут верх? Через 5 лет? 50? 100?
1823 год был тяжелым. Декабрист Каховский писал в ту пору, что "некая тишина лежит теперь на пространстве твердой земли просвещенной Европы".
Накапливавшийся пессимизм усиливался греческими впечатлениями: единственное освободительное движение, которое начиналось у Пушкина на глазах, сначала вызвало энтузиазм, сочувствие, затем - все большее разочарование. 2 апреля 1821 года Пушкин еще "между пятью греками <...> один говорил, как грек: все отчаивались в успехе предприятии Этерии..." (XIII, 302).
Позже Пушкин увидел слабость, жестокость, корыстность вождей, темноту и неразвитость народа. Через три года он пишет Вяземскому: "Греция мне огадила. <...> чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией - это непростительное ребячество. <...> Ты скажешь, что я переменил свое мнение, приехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мною согласился" (XIII, 99). Невеселые вести из родных столиц дополняли картину - аракчеевщина, мистика, отсутствие даже намека на перемены и реформы, казалось бы, обещанные в Варшавской речи 1818 года, Михаил Орлов смещен, Владимир Раевский - в тюрьме; о тайных обществах Пушкин знал немало ("кто не знал, кроме полиции?"), но, видно, интуитивно не слишком верил в успех: неудачных образцов кругом хватало (в 1823-м пала последняя революция - испанская, а Риэго был казнен). "Свобода - неминуемое следствие просвещения" - на этом Пушкин будет стоять всю жизнь. Но, кажется, незрелый плод принят за созревший. В 1822-м он еще пишет:
Нет, нет! оно прошло губительное время,
Когда Невежества несла Россия бремя (II, 270);но позже Пушкину все яснее, что просвещение не столь еще сильно, и свобода - еще не столь близка.
Одно за другим создаются стихотворения, в которых звучит разочарование. Начиная с послания заключенному в крепости В. Ф. Раевскому -
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным? (II, 293).Прежде - "волны... бег могучий". Ныне -
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную и младость
Дремотой лени усыпил? (II, 288).Еще в раннем оптимистическом послании В. Давыдову (апрель 1821 года) звучит сомнение (мы слышим его и в "Исторических замечаниях"): в Каменке осенью 1820 года ведь пили за здоровье тех (карбонариев) и той (конституции или свободы)...
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет (II, 179).Но сомнение еще не утвердилось:
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! мы счастьем насладимся,
Кровавой чашя причастимся,
И я скажу: Христос воскрес (II, 179).Еще надежды на "кровавую чашу", но уже - "тишина", "ярем".
Нетрескающийся ярем "странствует" по пушкинским стихам 1821-1824 годов, появляясь в послании к В. Раевскому ("Везде ярем секира иль венец") и окончательно утверждаясь в знаменитых строках:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич (II, 302).Стихотворение это - в письме Пушкина к Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года. В том же письме Пушкин между прочим цитировал и строфу из "Наполеона", особенно созвучную "Историческим замечаниям":
Хвала! Ты русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал...Процитировав, Пушкин замечает: "Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года [ошибка или описка - надо "в конце 1821" или "в начале 1822"], впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся" (XIII, 79).
За год с небольшим, минувший после "Исторических замечаний", Пушкин многое пересматривает. "2 августа 1822 года" еще была вера, что посев просвещения вскоре обратится в плоды свободы, хотя уж и тогда подступали сомнения... Сама работа, завершенная 2 августа 1822 года, - это были "живительные семена", бросаемые в "порабощенные бразды". Но в конце 1823-го -
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя,
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...В 1824-м горьким эпилогом к "Историческим замечаниям" звучат слова:
Судьба людей повсюду та же,
Где капля блага, там на страже,
Уж просвещенье, иль тиран..." [119]Иные скажут: если б Пушкин был ближе с декабристами, не было бы пессимизма. Трудно угадать несбывшееся, хотя подобный кризис 1823 года коснулся и некоторых будущих деятелей 14 декабря (Пестель, Матвей Муравьев-Апостол). Однако вернее было бы задуматься о глубочайшей интуиции, прозорливости Пушкина, который уже в 1823 году увидел сон народов и безнадежность быстрых заговорщических попыток - разбудить спящих "кличем чести". В конце 1823 года Пушкин, в сущности, предчувствует поражение 14 декабря: душою, дружбой, целями, идеалами он был и будет с Рылеевым, Бестужевым, Пущиным, Пестелем. Но то, что чувствовал Рылеев, уже целиком ушедший в заговор ("Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает..."), то же, но и по-другому, чувствовал Пушкин.
Для Рылеева не было выбора - сознавая, что погибнет, он продолжал.
У Пушкина выбор был. В те месяцы, когда было произнесено - "паситесь, мирные народы...", был начат "Евгений Онегин". Громадный перелом в жизни Пушкина, начавшийся с весны 1823 года, завершается в михайловской ссылке.
Меня борьбой неравной истомили.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой (III, 996).Этот перелом означал пересмотр многого: менялся взгляд на свое место в обществе, на политику, историю. Романтическое искусство уступало место совсем иному...
"Исторические замечания" для Пушкина стали "вчерашними"; не были продолжены, потому что взгляд поэта на историю, на свободу и просвещение изменился" и усложнился. Новый взгляд требовал "Бориса Годунова", "Пугачева", "Медного всадника"...
"Исторические замечания" не были продолжены, но в них уже заложено движение к "Борису Годунову", "Пугачеву" и "Медному всаднику".
Однако и в пройденном для Пушкина всегда остается "часть его большая", отчего его сочинениям нет ни старости, ни смерти, отчего они никогда не пройдены для нас.
Необходимы краткие выводы.
Оказалось, что друг Пушкина Николай Степанович Алексеев прожил до 1854 года.
Из этого следует, что Алексеев общался с первым пушкинистом Анненковым и передал ему списки некоторых запретных пушкинских сочинений, а также свои собственные воспоминания.
В Пушкинском доме нашлась "тетрадь", или "сборник" Алексеева, где сохранилась единственная копия "Некоторых исторических замечаний" пушкинского труда, сочинявшегося с лета 1821 по 2 августа 1822 года.
Возможно, Пушкин подготавливал большую историко-политическую работу о своем времени, к которой "Замечания" служили как бы вступлением.
Размышления о просвещении, понимание того, что ожидавшиеся близкие перемены в жизни страны - неблизки: все это вызвало с 1823 года переоценку ценностей, перемену во многих мыслях Пушкина. Поэтому работа, начатая "Историческими замечаниями", Пушкиным прекращена. Беловая рукопись их кому-то передана, затем попадает к М. Е. Лобанову, а позже - в собрание П. Я. Дашкова.
"Некоторые исторические замечания" - шесть пушкинских листов - читаются уже больше столетия и все же не прочитаны, и много еще чтения впереди...
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Размер 215х340 мм. водяной знак - "гг. Хлюстиных 1818 год" и лев с мечом в овале.
2. "Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою" (перевод Пушкина).
3. Этой пушкинской работе, напечатанной в XI томе Полного собрания сочинений, посвящен раздел в книге Б. В. Томашевского "Пушкин", кн. 1 (1813-1824). М. - Л., 1956, стр. 566-585, обстоятельные комментарии Ю. Г. Оксмана в 7-м томе Собрания сочинений Пушкина. ГИХЛ, 1962, а также многие страницы в книге И. Л. Фейнберга "Незавершенные работы Пушкина".
4. Из первой редакции стихотворения "Алексееву" (II, 734).
5. Липранди, оставивший лучшие мемуары о тогдашней кишиневской жизни Пушкина, пишет, что "Пушкин любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение" ("Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников", ред. С. Я. Гессен, ГИХЛ, 1936, стр. 198).
6. У Пушкина - "прежних лет...".
7. Липранди вспоминал: "В сороковых (и в 1851-м) годах, видевшись почти ежедневно с Алексеевым, когда он после последней поездки своей в Саратовскую губернию, по частному делу К[иселе]ва, оконченному самым удовлетворительным образом, не видя поощрения ни по служебным занятиям, ни за оказываемые по частным делам удовлетворения, вынужден был оставить службу при Киселеве и искать другого ведомства, он как-то в разговоре со мной с горькой улыбкой припомнил прорицание Пушкина".
8. В Молдавии, без сомнения, были близки к тайным обществам, кроме схваченных властями В. Ф. Раевского и М. Ф. Орлова, также Охотников, братья Липранди, В. П. Горчаков и другие офицеры.
9. Генерал Павел Сергеевич Пущин, близкий к декабристам и пострадавший в связи с делом М. Ф. Орлова.
10. Любопытно, что в 1823 году было издано тайное распоряжение, запрещающее почтамтам вскрывать письма или не принимать чужую корреспонденцию (без высочайшего распоряжения относительно тех лиц, к коим "целесообразно применять перлюстрацию").
11. "Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников...", стр. 193.
12. "Рукою Пушкина", стр. 721.
13. "Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников...", стр. 249.
14. См. об этом в тетради литературных и исторических материалов А. Н. Афанасьева: ЦГАОР, ф. 279 (Якушкина), № 1066.
15. Полное чтение этого отрывка (начинающегося со слов "Вот муза резвая болтунья...") впервые дал С. М. Бонди ("Новые страницы Пушкина". М., 1931, стр. 92-103). В то время С. М. Бонди соглашался с тем, что это черновое посвящение к "Гавриилиаде", однако позже (комментируя стихи в академическом собрании Пушкина) он писал, что "этот набросок <...>, вероятно черновик послания к кн. П. А. Вяземскому" (II, 1099; текст послания см. II, 203).
16. А. С. Пушкин. Гавриилиада, ред. Б. В. Томашевского. П. 1922, стр. 26.
17. См. II, 1040 (примечания).
18. ПД, ф. 244, оп. 8. № 104, л. 27. ЦГАОР, ф. 279. № 1066.
19. Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана в книге Л. Майкова "Пушкин". СПб., 1899, стр. 125.
20. На сохранившемся экземпляре "Истории Пугачевского бунта", принадлежавшем Н. С. Алексееву, имеется exiibris: "Библиотека Н. Алексеева" № ..., полка... том №...". Но библиотека не сохранилась.
21. См. М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 271.
22. В. Л. Модзалевский, Пушкин. Л.. 1929, стр. 295.
24. ЛВ, ф. 47 (А. Ф. Вельтмана), п. 28, № 17, "Воспоминания о Бессарабии". Черновой автограф.
25. П. В. Анненков, Материалы для биографии Пушкина. 1855, стр. 173.
26. Средство борьбы с холерой: боялись, что зараза распространится через посредство писем.
27. "Н. А." - очевидная опечатка. Здесь и далее каждое упоминание Н. С. Алексеева набрано жирным шрифтом (в настоящем издании это не сделано - V.V.)
28. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху. 1874, стр. 168-169.
29. Может быть, таинственная Майгин N и ее подруга, которым адресовано одно из пушкинских писем (см. XIII, 76-77).
30. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 191.
31. Ни генерала, который удостаивает принимать негодяя у себя в доме (примечание Пушкина).
32. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 192. Перевод с франц. Послание к Дегильи, см. XIII, 30 и 522 - 523 (перевод).
33. В книге вновь ошибочно: "Н. А.".
34. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 217- 218.
35. П. В. Анненков, Материалы для биографии Пушкина, стр. 84-87.
36. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 170, 188-190, 210-211.
37. Из чувства чести (франц.).
38. Cм. Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты "Полярной звезды". М., 1966, гл. VIII и IX.
41. Сохранившийся черновик стихотворения "Пущину" не противоречит гому, что это "експромт", только сочиненный не мгновенно, а за краткое время. (Кстати, черновой автограф Пушкина помещается не в тетради, а на отдельном листке!)
42. ПД ф. 244, оп. 26, № 348, л. 112.
44. Архив Академии наук СССР, ф. 150 (канцелярия Пушкинского дома), оп. 1, 1899 г., № 1, лл. 113. 120. П. П. Вейнер ошибочно разделил одно из писем, отчего и разница в счете с В. Л. Модзалевским.
45. Об Александре Степановиче Алексееве известно, что он служил около 1820 года в лейб-гвардии конно-егерском полку и одновременно с братом Николаем Степановичем был масоном (в Петербургской ложе "Соединенных братьев"). См. "Русская старина", 1907, август, стр. 418.
47. Об источниках пушкинских "Замечаний..." см.: Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. 1, стр. 570-572.
48. Отмечено Т. Г. Цявловской.
49. В 1831 году в "Рославлеве": "Народ, который тому сто лет отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову".
50. Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы (примечание Пушкина).
51. А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VII, стр. 189.
52. Герцен в "Былом и думах": "Четырнадцатого декабря <...> пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра" (А. И. Герцен, т. IX, стр. 48).
53. Этот отрывок, первоначально внесенный в основной текст, Пушкин затем перенес в примечания.
54. М. А. Цявловский, Дневник П. И Долгорукова, "Звенья", IX, 1951, стр. 27.
55. Под "республиками" Пушкин здесь подразумевает разные типы представительных правлений: под "государством" - абсолютную монархию.
56. Пушкин употреблял здесь (и во многих иных случаях) это слово в значении - "восславленный", "прославленный".
57. И. Л. Фейнберг, Неизданный черновик Пушкина, "Вестник АН СССР", 1956, № 3, стр. 118-121.
58. "Домашний палач кроткой Екатерины" (примечание Пушкина). Это примечание, как и некоторые другие, заставляет думать, что Пушкин собирался широко распространять свое сочинение: ведь не Вяземскому же, не Тургеневым, не лицеистам следовало объяснять, кто такой Шешковский?
59. Впрочем, оценки западных мыслителей были отнюдь не столь единодушны, как думал тогда Пушкин. Г. Рейналь и Д. Дидро писали в 1780 году о екатерининской России: "Великим несчастьем для страны был бы справедливый, непреклонный, просвещенный деспот; еще хуже два или три подобных благодетеля подряд. Народы, не разрешайте вашим так называемым владыкам делать против вашей общей воли даже добро <...>". (Цит. по книге Ю. Ф. Карякина и Е. Г. Плимака "Запретная мысль обретает свободу". М., 1967, стр. 112.)
60. "Общественные движения в России в первую половину XIX века". СПб., 1905, стр. 123.
61. О датировке "Послания цензору" - между апрелем и 15 октября 1822 года, см. "Литературное наследство", т. 58, 1952, стр. 37.
62. О взгляде Пушкина на деятельность Екатерины II см. статью В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона "Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине" в кн.: "Новонайденный автограф Пушкина". Л., 1968, стр. 87-97.
63. Об этом стихотворении и о сравнении Александра с римскими императорами см. М. А. Цявловский, "Статьи о Пушкине", стр. 47-50.
64. В первую очередь подразумевается, конечно, автор "Фелицы", а также немало других имен...
65. В следующем диалоге все слова Карамзина взяты из его "Записки о древней и новой России". СПб., 1914 (в скобках - страницы этого издания).
66. Приведенные строки Пушкин нашел в только что вышедших "Oeuvres completes de m-me Stael. Publies par son fils", v. XV, 1821, p. 313- 314.
67. Б. В. Томашевский, Пушкин. М. - Л., 1956, кн. 1, гл. IV, раздел 29.
68. См. И. Л. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина. М., 1969, стр. 314.
69. ПД, ф. 93 (собрание П. Я. Дашкова), оп. 1, № 2, л. 44.
70. Там же, л. 117. Письмо Пушкина, см. XIII, 427.
71. На самом деле - копия пушкинского послания рукою брата, Л. С. Пушкина (см. II, 1152; примечания).
72. ПД, ф. 93, оп. 1, №3, л. 20.
73. "Русская старина", 1880 г., декабрь, стр. 1043. П. Я. Дашков в течение многих лет был дружен с П. А. Ефремовым и, очевидно, передал тому право публикации нового пушкинского автографа.
74. ПД, ф. 93, оп. 1, №9 (1881-1884), л. 76.
76. П. Я. Дашкова приглашали на похороны сестра и братья покойного.
77. Кроме пушкинских документов, П. Я. Дашков в несколько приемов с 23 февраля до 24 июля 1878 года приобрел у Лобановых старинные рисунки, а также рукописи и письма к разным лицам Крылова. Гнедича, Козлова, Хвостова, Батюшкова, Ф. Глинки, Плетнева, Державина, Загоскина, Карамзина, Милонова, Баратынского, И. ДмитриевА. С. Аксакова, Жуковского, А. Бестужева, Шишкова, Шаховского и др., а также письма Загоскина, Гнедича и других, адресованные М. Е. Лобанову. См. ПД, ф. 93, оп. 1, № 3, л. 20 и cл.
78. Н. Янчук, Литературные заметки. "Известия отдела русского языка и словесности Имп. Академии наук", 1901, кн. IV, СПб., 1908, стр. 214 и cл.
79. ЦГАЛИ. Архив Лобанова (ф. 303), оп. 1, № 34. В этом архиве, а также среди бумаг Лобанова, сохранившихся в Ленинградской публичной библиотеке (в собрании П. Н. Тиханова), к сожалению, не удалось найти каких-либо материалов, прямо относящихся к "Историческим замечаниям".
80. Интересно, откуда дети Лобанова знали, что анонимная рукопись "о русской истории" - пушкинская: из частичной ее публикации в "Библиографических записках" 1859 года или от своего отца?
82. М. А. Цявловский, Статьи о Пушкине, стр. 260-353. О первой кишиневской тетради см. "Русская старина", 1884, апрель, стр. 87-110. Т. Г. Цявловская любезно ознакомила меня с рукописью подготовленного ею описания той же пушкинской тетради.
83. Черновой план поэмы сохранился именно в этой тетради.
84. См. XI. 288. И. Л. Фейнберг. Неизданный черновик Пушкина. "Вестник АН СССР", 1956, № 3, стр. 118-121.
85. Карл 3анд - немецкий студент, убивший в 1819 году агента русского правительства, реакционного писателя Августа Коцебу.
86. Александр Ипсиланти - князь, один из вождей греческого восстания 1821 года.
87. Пьер Лувель - убийца члена французской королевской семьи герцога Беррийского (1820 год).
88. В. В. Гиппиус, Б. М. Эйхенбаум. Датировка произведений, входящих в XI том академического собрания сочинений А. С. Пушкина, машинопись. стр. 1, по экземпляру, который хранится у Т. Г. Цявловской.
89. В квадратных скобках - написанное и затем зачеркнутое Пушкиным.
90. Неблагодарная отчизна (латин.).
91. То есть, вероятно, увести от главной темы к обсуждению восточной политики России.
92. Алексеев сделал тут описку: "новое". Также он пропустил слово "самовластье" в последней фразе ("Защитники самовластья в том несогласны...").
93. В книге Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского "Рукописи Пушкина в Пушкинском доме" (Л.. 1937) высказано мнение, что в беловой рукописи три поправки над строкою сделаны не Пушкиным. Однако позже Б. В. Томашевский, очевидно, пришел к иному мнению, так как в вышедшем под его редакцией академическом издании (десятитомнике) Пушкина все эти слова введены в тексты без оговорок. По просьбе автора статьи Т. Г. Цявловская изучила "подозреваемые слова" и считает несомненным, что они написаны Пушкиным.
94. Впрочем, Пушкин не поставил порядкового номера у своей "Note", как это сделал в других случаях, и, возможно, хотел еще подумать и над текстом примечания, и над его расположением.
95. Пушкин, видимо, ценил Алексеева как читателя своих сочинений, может быть, проверял на нем воздействие того или иного отрывка. В рукописи стихотворения "Таврида" (1822 г.) - к стиху "Лобзать уста младых Цирцей" - Пушкин сделал примечание: "Цирцей - замечание Алексеева" (см. II, 761), то есть, вероятно, по поводу этого слова Алексеев сделал замечание, которое Пушкин захотел использовать при работе над "Тавридой". При переработке этих стихов для "Евгения Онегина" (строфа XXIII главы первой) Пушкин заменил гомеровских "цирцей" на "армид" (Армида - одна из самых соблазнительных героинь "Освобожденного Иерусалима" Торквато Тассо).
96. Первая публикация в "Чтениях общества, истории и древностей российских", 1861. кн. 4, стр. 153-155 и "Русском архиве", 1864, стр. 321-329.
97. Любопытно, что в лицейском дневнике Пушкина "Естественное право" упоминается в таком контексте: "Вчера написал я третью главу "Фатама, или Разума человеческого: право естественное". (От юношеского романа "Фатам" сохранилось лишь одно четверостишие.)
98. "Русский архив", 1864, стб. 323-325.
99. В 1822 году Магницкий и Рунич расправились еще с несколькими петербургскими профессорами и в их числе с другим лицейским наставником Пушкина - Галичем,
100. И. Селезнев. Исторический очерк императорского, б. Царскосельского, ныне Александровского лицея. СПб.. 1861, стр. 125-126.
101. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 145.
102. "Русский архив". 1864, стб. 326.
103. Заглавия писем у Алексеева: первое письмо - "Lettre de l'Empereur Alexandre a l'amiral Tchitchagow. Ecrite de Wilna au mois de mai 1812". Второе письмо - "Au meme. Le 7 Juin 1812. Vilna. Первое письмо (подлинник и перевод) опубликовано М. Богдановичем в "Сборнике русского исторического общества", т. VI. Спб., 1871, стр. 67-73.
104. Об этой переписке см. "Из записок адмирала Чичагова. Дела Турции в 1812 году. Проект диверсии против Наполеона". "Русский архив", 1870, № 8 и 9, стб. 1522-1551.
105. У Н. С. Алексеева документ озаглавлен "Declaration". Текст "Декларации" и перевод с французского в Полн. собр. законов, № 28619 и в книге "Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами", сост. Ф. Мартенс, т. IV. ч. 1, трактаты с Австрией, 1818-1848. СПб.. 1878, стр. 282- 292.
106. Очевидно, генерал М. Ф. Орлов.
107. Под декларацией стоят подписи: от Австрии - Меттерниха и барона Венсана, от Пруссии - Круземарка, от России - Нессельроде, Каподистрия, Поццо-ди-Борго. Между прочим, от графа Каподистрия зависело многое в судьбе Пушкина. Кажется, сановник был склонен смягчить судьбу ссыльного (см. П. В. Анненков, А С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 148-149), однако на Лайбахском конгрессе окончательно выявились расхождения Александра I с Каподистрия по греческому вопросу, и вскоре последний покинул Россию. Все это было для Пушкина и кишиневских его приятелей далеко не безразлично.
108. М. Цявловский, Дневник П. И. Долгорукова. "Звенья" кн. IX, 1951, стр. 88.
110. Ф. Мартенс. Сборник трактатов и конвенций..., т. IV, ч. 1. СПб., 1878, стр. 291.
111. Русские отклики собраны в книге Н. К. Шильдера "Император Александр I. Его жизнь и царствование", т. IV. СПб., 1898. стр. 92-98.
112. Адам Чарторыйский говорил, что Александр I в беседах с ним тогда все больше утверждался в мысли "присоединения забранных провинций к королевству" (Шильдер, Указ. соч., IV, стр. 98).
113. П. В. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпоху, стр. 202- 204.
114. А. С. Пушкин, Собр. соч., т. VII. М., Гослитиздат, 1962, стр. 391 (комментарии). А. Н. Шебунин не видел в "Заметках" "что-либо иное, кроме чисто публицистического произведения" ("Пушкин. Временник Пушкинской комиссии", 2. М. - Л., 1936, стр. 438).
115. И. Л. Фейнберг, Незавершенные работы Пушкина, стр. 304.
116. Русская старина", 1880, декабрь, стр. 1043.
117. Б. В. Томашевский, Пушкин, кн. 1, 1956, стр. 569.
118. "Быстрое введение" - пушкинские слова, относящиеся к первой главе Онегина, - применил к "Историческим замечаниям" Б. В. Томашевский. Указ. соч., там же.
119. Мысль о том, что существенный перелом в воззрениях Пушкина начался до 14 декабря, появляется, но все как-то не утверждается в литературе... Любопытную, но характерную ошибку допускает Герцен в "Былом и думах". Сравнивая два послания Пушкина к Чаадаеву ("Товарищ, верь..." и "К чему холодные сомненья?"), Герцен находит, что "между ними прошла <...> целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждой ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад". Именно потому будто бы, что "заря не взошла, а взошел Николай на трон", Пушкин пишет во втором послании:
Но в сердце бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.(см. А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах. Т. IX. М., 1956, стр. 146). Между тем второе послание к Чаадаеву было написано до Николая I, в 1824 году.
Октябрь 2002 |